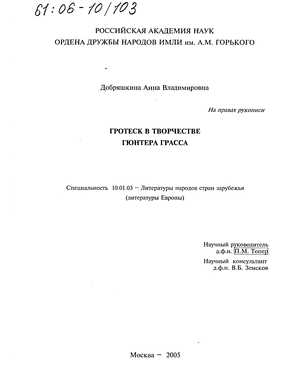Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Гротеск и хронотоп "четвертого времени" 26
Глава 2. Типологические особенности гротеска Гюнтера Грасса 47
2.1. Гротеск как результат творчества протагониста 50
2.1.1. Правда о фотографиях 53
2.1.2. Мир как театр пугал 74
2.1.3. Документальный фильм о сказках, или тридцать лет спустя 84
2.2. Гротеск как проявление бессознательного 102
2.2.1. "Я увидел себя на экране" 106
2.2.2. Книга крысиного Откровения 113
2.2.3. Интертекстуальное безумие: Фонтане и Дон Кихот — герои Грасса 123
Заключение 140
Список использованной литературы 148
- Гротеск и хронотоп "четвертого времени"
- Гротеск как результат творчества протагониста
- Гротеск как проявление бессознательного
Введение к работе
Запись в дипломе, врученном королем Швеции 10 декабря 1999 года последнему в XX столетии немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе, писателю Гюнтеру Грассу (р. 1927), гласит: "за дерзко-мрачные притчи, показывающие забытое лицо Истории". В этой формулировке содержится указание на доминанту поэтики Грасса — гротеск, призванный восстановить вытесняемый из коллективной памяти ужас прошедшей эпохи.
Именно гротеск, известный изобразительному искусству и литературе разных эпох, становится в творчестве Гюнтера Грасса, как, в значительной мере, и вообще в современной культуре, наиболее действенным подходом к художественному осмыслению "многосложностей" [Сг:46] минувшего столетия.
Гротескное изображение действительности оказывается часто для многих немецкоязычных писателей (например, Эдгара Хильзенрата, Якова Линда, Дьёрдя Табори, которых коснулись преступления Третьего Рейха) единственным возможным способом описания фантасмагоричной картины смерти и насилия. Гротескный образ гибнущего, погрязшего в этических и идеологических противоречиях человечества выходит в современной литературе далеко за пределы конкретных исторических или политических событий: метафизический смысл приобретают в творчестве Ф. Дюрренматта поиски абсолютной справедливости и меры человеческой личности на фоне военных действий или мирной жизни; непосредственно к апокалиптической тематике обращается Кристоф Рансмайр. Для Гюнтера Грасса XX век — время "надтреснувших представлений и надтреснувших фигур" [цит. по 1:89], но его поэтика гротеска занимает в этом ряду писателей особое место.
Гротеск Грасса ассоциируется, в первую очередь, со скандальным резонансом, который имели его первые романы. В 1967 г. дело доходит до судебного процесса, его обвиняют в "сочинительстве невообразимых порнографических свинств" и "осквернении католической церкви"; спустя два года Мюнхенский суд разрешает употреблять эти формулировки при характеристике Грасса — но только в литературном контексте. Как заметил в самом начале творчества писателя известный издатель Курт Вольф, провокационный заряд несут не столько смакуемые автором раблезианские эпизоды, "грубая, плотская вещественность" [2:7], сколько "многочисленные бласфемические пассажи" [3:9]. Католическое воспитание Грасса, детальная осведомленность во многих религиозных вопросах формируют при его отходе от веры очень личностное, по сути, агрессивно-богоборческое отношение к религии. Парадоксальный мир Грасса, основанный на перевернутом христианстве, не только воссоздает образ современной детеизированной эпохи, но и по-своему напоминает о древних образцах гротеска, связанных с разделением бытия на Civitas Dei и Civitas Diaboli [см.4:1]. Противостояние писателя коллективному вытеснению — всеобщему желанию забыть жуткую правду истории и изжить чувство вины — происходит, однако, не путем разграничения этих двух сфер бытия, а путем пародийной игры с традиционными формами Добра, его выворачивания, что в итоге и вызывает эффект демонизации действительности.
Вобравший в себя взрывной потенциал многих веков, гротеск Грасса раскалывает знакомый мир на две противостоящие друг другу формы существования: привычную и повседневную оболочку, которую писатель видит совершенно пустой, и в каждое мгновение готовое заполнить ее шокирующее многообразие явлений, непредполагаемых обыденным сознанием, противоречащих нравственным ориентирам, всякой логике и жизненному опыту.
Давая поэтологические пояснения к своему творчеству, Грасс вводит соответствующие понятия, которые определяют эти два измерения: "расширенная реальность" и "редуцированная реальность" [5:257]. Одной единственной действительности, из которой принято исходить, считает Грасс, не существует: всегда приходится "сталкиваться с несколькими действительностями — действительностями, исключающими друг друга, действительностями, сокрытыми обыденной картиной мира" [6:185]. Главная задача современного искусства поэтому — "выявить множество действительностей" [ibid.], а их наслоение и пересечение и есть основное условие для возникновения гротескного мира. По отношению к "расширенной реальности" человек, с его "редуцированным восприятием" [5:257] бытия и осознанием лишь его видимой и осязаемой поверхности, может восприниматься, по убеждению Грасса, лишь "надломленно или [...] гротескно" [7:65].
Персонажи Грасса, все его художественное пространство представляют собой воплощение противоречий современной эпохи. Вариативность "действительностей" сопряжена в его творчестве с еще одним авторским концептом — "амбивалентностью правды" [8:180]. В сущности, в соответствии с интерпретацией Грассом действительности, точнее было бы говорить о поливалентности "правды", о множестве ее реально существующих ипостасей — вместо единственной, навязанной обществу той или иной идеологической программой. Такой концепт "амбивалентной правды" Грасс понимает как задачу писателя релятивизировать систему канонических ориентиров политики, исторической науки и религии при восприятии духовных ценностей, явлений и фактов.
Любое произведение Грасса поэтому — это поиск "другой правды" [П:440]. Его книги переполнены пророками и пророчествами — каждый раз новыми, — возвещающими об очередной истине, которая, так или иначе, остается недоступной. "Другая правда" ассоциируется у Грасса в том числе и с Замком Франца Кафки [9:190]: по мере приближения к ней героев эта правда искажается или распадается на все большее количество версий, обманывающих своей идентичностью и уводящих в пустоту. Позиция и оценочная перспектива героев всегда подвижна и изменчива, среди грассовских образов, несмотря на их колорит, нет ни условно положительных, ни по-настоящему отрицательных фигур (хотя и те, и другие вместе с описываемой Грассом эпохой способны вызывать у читателя обостренное чувство отвращения). Прошлое, воспринимаемое писателем как многомерное, никогда не поворачивается к читателю одной и той же стороной. Этим объясняется и невозможность интерпретировать творчество Грасса в одном ключе: его герои, как и у любимого им Сервантеса, представляются читателю скорбящими мудрецами и шутами-глупцами одновременно.
Вариативность допустимых проявлений действительности и правды, принципиально неразрывная связь и между несвязуемыми онтологическими феноменами, и между несвязуемыми микроуровневыми (языковыми) структурами, то есть отсутствие однозначного или-или , становится у Грасса основой и смыслом творчества.
Соединяя в поисках "забытого лица Истории" разнотипные модальные поля таким образом, Грасс переосмысливает и категорию времени. Поступательное движение истории, считает Грасс, имеет значение только в условиях "редуцированной реальности". В реальности "расширенной", поливалентной, хронология неуместна, в ней нет и не может быть периодизации эпох — череды прошлого и настоящего. По словам Грасса, "настоящее — это очень сомнительное понятие" [5:261]: современность в традиционном понимании — непременно фикция, поскольку то, что человек называет временем, есть симультанный, а значит, и всегда современный процесс. Центральное звено этой концепции — "четвертое время" [5:262], или "Vergegenkunft", термин, созданный Грассом из соответствующих частей немецких слов прошлое (Vb-gangenheit), настоящее (Gegenwart), будущее (Zukunft). Однако за этим словесным гибридом, означающим на первый взгляд — на языковом уровне — изобретенный писателем синтез времен, скрывается более сложный онтологический концепт — эсхатологический хронотоп, то есть зафиксированный момент отмены времени и действующих законов. Именно благодаря этой, зачастую ускользающей от внимания читателя, эсхатологической модальности, гротеск грассовского мира выходит за рамки системы стилистических приемов.
Формирование в контексте "расширенной реальности" альтернативного понимания истории, которая в произведениях Грасса предстает целенаправленно пересмотренной и перетолкованной, можно считать внешним проявлением единовременности событий — "Вчера будет то, что произошло завтра" [ВТ:7]. Сочетание "дерзости" и "мрачности" "притч" Грасса осуществляется благодаря наслоению двух плоскостей: локализации действия практически в преддверии Страшного суда (правда, при отсутствующем Судье), когда обнаружится скрываемое и забытое; и своеобразного игрового подхода, позволяющего писателю современности не только жонглировать духовными ценностями и событиями всей человеческой истории, но и свободно обращаться с материалом европейской литературы, прослеживать метаморфозы готового текста.
Несмотря на то, что философом В. Адорно в послевоенной литературе был объявлен "час ноль" ("Stunde Null") — в силу этической неспособности искусства "после Освенцима" (В.Адорно) осмыслить и адекватно представить происшедшее, — и превращать недавние исторические события в художественное игровое пространство считалось подчас неуместным и даже опасным, Грасс выбирает для анализа своего собственного и коллективного прошлого выраженно игровой формат — доминирующий компонент в культуре XX века. Поскольку "играть на инструменте стиля своей эпохи" [8:176] означает для Грасса погрузиться в хитросплетения постмодернизма, Грасс обращается к эпохе, которая не только занимает основное место в историко-культурном фундаменте Германии, но и перекликается с хаотичной современностью по своему художественному и историко-политическому содержанию. Считая своими непосредственными предшественниками Гриммельсхаузена, Рабле и Сервантеса, Грасс видит себя своеобразным продолжателем литературной традиции, заложенной в эпоху барокко [см. 10:158]. Но при этом барокко для Грасса — не только искусство, ушедшее в далекое прошлое периода затяжной общеевропейской Тридцатилетней войны, но и вневременная мировоззренческая система, которая, будучи переполненной предчувствиями Апокалипсиса, максимально точно соответствует введенному писателем понятию отмены времени — Vergegenkunft. Игра в барокко в разгар XX века и есть "четвертое время".
Однако творчество Грасса барочно не в смысле прямого и однозначного следования меркам XVII столетия. Напротив, барокко Грасса следует трактовать предельно "расширенно" — как и его "действительность", почти метафизично. Традиционные барочные антиномии — смерть и возрождение, эпикурейская вычурность земного существования и vanitas, поиск наслаждений в хаосе и тоска по порядку и гармонии, религиозность и пародийная детеизация, духовное высокое и низкое плотское, документальность и вымысел, иррациональность и научная точность, — предстают у Грасса в художественной и онтологической полноте современности, придавая контексту XVII века исключительно актуальный смысл.
Старинный карнавал не просто перемещается из одного столетия в другое, но поглощает и остальные промежуточные эпохи (например, романтизма, реализма, экспрессионизма) вплоть до современности, вовсе не склонной к культу "радостного и ликующего смеха" [11:46]. При внимательном анализе в произведениях Грасса можно обнаружить огромное количество реминисценций, аллюзий, цитат, составляющих пестрый многоуровневый и разноплановый интертекстуальный конгломерат литературных и философских фрагментов и поэтологических концептов разных веков: Жан Поль, А. Дёблин, М. Хайдеггер, Т. Фонтане, Ф. Кафка, У. Йонсон, Ж.-П. Сартр, А. Камю будут сведены в большинстве случаев к одному мировоззренческому знаменателю. Такая пестрота своеобразно отразится на изначально барочном мироощущении писателя современности. Его литературный карнавал, как и у исторических предшественников, Рабле, Сервантеса и Гриммельсхаузена, будет стремиться к ни на мгновение не прекращающимся метаморфозам "образов материально-телесной жизни" [11:46], которые Грасс выписывает с истинно виталистическим удовольствием. Однако разворачивается эта площадная массовая игра на территории совсем иного карнавала — зловещих зрелищных мероприятий XX столетия. Поэтому в произведениях Грасса смех, порождаемый радостью неиссякаемой литературной игры и самоценного творческого процесса, как правило, "редуцируется" [11:44], по определению Бахтина, застревает в горле у читателя, даже если сами персонажи — авторские ипостаси Грасса — находят повод для веселья. В результате читатель имеет дело одновременно с захватывающим интеллект, несущим обновляющее начало карнавалом на уровне текста и литературы — и мрачным, макабрическим карнавальным действом на уровне идейном, философском.
Если проследить жизненный путь писателя, то становится ясно, что такая игра в барокко определяет его творчество не только благодаря сознательным литературным предпочтениям. Гротескные метаморфозы персонажей Грасса — это, прежде всего, отголоски его собственных духовно-мировоззренческих метаморфоз , во многом типичных для переполненного политическими и идеологическими коллизиями времени. В картине XX века, которую моделирует Грасс, всегда подчеркивается сопричастность автора всем темным сторонам истории. Разнообразие пережитого, артистически переработанное в материю повествования, важно в его творчестве не как уникально-индивидуальное, а как свидетельство всеобщей истории.
Главным игровым пространством, где разворачивается действие почти всех произведений, и символом прошлого, которое необходимо вернуть ("Я занимаюсь только прошлым, то есть по большей части также моим прошлым" [12:13]), становится родной город Грасса Данциг с его предместьями. Несмотря на расширенные модальные границы, фиктивный Данциг наделен историческим топографическим обликом и вмещает в себя социально и культурно типизированных жителей (говоря проще, в большинстве персонажей так или иначе можно узнать ближайшее окружение Грасса).
Особенно автобиографичны первые романы — "Жестяной барабан" ("Die Blechtrommel", 1959), "Кошки-мышки" ("Katz und Maus", 1961) и "Собачьи годы" ("Hundejahre", 1963), объединенные автором в так называемую "Данцигскую трилогию". Здесь предстают основные этапы его собственного художественного становления, как бы систематизирующего опыт многочисленных, характерных для той эпохи перевоплощений : узкий мелкобуржуазный мир предвоенного польско-немецкого Данцига, с привычными ритуалами и политическим оппортунизмом; воспитание в духе умеренного католицизма с его "запахом, радостями зрительного и слухового восприятия, с его языческими элементами" [13:295]; участие в проведении месс, на которых служились специальные "Молебны о здравии фюрера" и не было молитв о солдатах на фронте и преследуемых [см. 13:298]; утрата веры; увлечение искусством; первые опусы для юношеского идеологического журнала; мобилизация (1944), ранение, американский плен. После войны Грасс, как это подробно описывается в "Жестяном барабане", перебирается в Дюссельдорф, где переживает череду творческих ипостасей: каменотес, скульптор, график, играет в джазе на стиральной доске, увлекается балетом.
"Витальное и вульгарное желание стать художником, у которого на уме только одно: делать что-нибудь руками" [14:274] исполняется еще до поступления в Академию искусств. Грасс овладевает искусством изготовления могильных плит и памятников (этот профессиональный опыт, как справедливо замечают многие исследователи, накладывает определенный отпечаток и на особенности его поэтики: "отсюда идет ее утонченно-грубоватая пластичность, осязаемость, отсюда — колющая резкость штриха"
[2:6]). По рекомендации своего учителя, он останавливается сначала в католическом общежитии — именно здесь в его беседах (а позднее и в переписке) с францисканским священником, куратором общежития, происходит дальнейшее формирование представлений о христианстве. На них будет возводиться пародийно-противоречивый художественный космос Грасса, буквально переполненный ветхо- и новозаветными мотивами, управляемый иррациональными стихиями в условиях разбушевавшегося апокалиптического хаоса и ставшего последним возможным приютом для "падшего человека" [14:275].
Культивируемая в Дюссельдорфе идеология экономического чуда вынуждает Грасса переехать в Берлин. Там, совмещая занятия графикой и скульптурой, Грасс обращается уже непосредственно к литературе. К этому подталкивает его и приобретенный в монастырской библиотеке литературный багаж ("все возможное от Тракля до Бодлера" [15:32]). Многомерная творческая деятельность писателя всегда основана на его визуальном восприятии. Благодаря своему особому умению наблюдать за эмпирической действительностью, Грасс воплощает феномены бытия с одинаковой образностью как в скульптуре, так и на бумаге — в графике, акварели и литературе. Гротескное пространство складывается, подобно эмблеме, из осязаемых и видимых предметов, между которыми устанавливаются связи, выходящие за рамки вещественности и несводимые к единой дефиниции: "алогичность незначительных событий предопределяет логику важных событий" [16:9].
Изложенные уже в начале 1950-х гг. художественные позиции — предпочтение многогранного искусства (подобие барочного Gesamtkunstwerk, синтеза искусств), философское осмысление вины Германии и хода истории ("Это вопрос о вине или о причастности к вине или о внушенной вине, вопрос игры с виной, потребности в вине..." [17:111]), а также близкое к абсурдизму восприятие бытия, погруженного в вечный хаос, — останутся неизменными базовыми компонентами творчества и самого Грасса, и его фантастических протагонистов-художников Оскара Мацерата из романов "Жестяной барабан" и "Крысиха" ("Die Rattin", 1986) и ученика Оскара Эдди Амзеля из романа "Собачьи годы".
Помимо искусства, Грасс, хотя и не приемлет никаких идеологических систем, с середины 1960-х гг. активно занимается политической деятельностью; участие в предвыборной кампании Вилли Брандта закрепляет за ним статус политически ангажированного писателя. И несмотря на то, что сам Грасс в своих заявлениях всегда настаивал на разграничении политики и искусства, оценочное восприятие произведений писателя критикой и литературоведением часто основано, главным образом, на идеологических критериях.
Периодизация творчества Грасса достаточно условна и обусловлена скорее тематическими предпочтениями, связанными с конкретными общественно-политическими событиями, чем с художественной эволюцией. Такие этапы представляют собой всегда обращение писателя к той или иной грани Vergegenkunft — "четвертого времени". К первому периоду, осмыслению исторической вины Германии в рамках прошлого, исследователи традиционно относят произведения "Данцигской трилогии" — "Жестяной барабан", "Кошки-мышки", "Собачьи годы". Однако следует иметь в виду, что тематически к ним примыкает в качестве своеобразного постскриптума написанная много позднее новелла "Im Krebsgang" (2002), подводящая итог процесса расследования "данцигского" прошлого. "Im Krebsgang" имеет иные поэтологические характеристики: типичное для данцигских предшественников сгущение гротеска проявляется здесь бледно и лишь в редких эпизодах — как сигнал соотнесения с трилогией и указание на общую доминанту художественного сознания писателя.
Второй период творчества Грасса отличается изменением тематического ракурса в сторону настоящего: оставаясь верным "четвертому времени", продолжая заниматься виной и историей, Грасс рассматривает современность через призму прошлого ("Под местным наркозом", "ortlich betaubt", 1969; "Из дневника улитки", "Aus dem Tagebuch einer Schnecke", 1972). Особое место занимают вневременные произведения, представляющие собой альтернативную интерпретацию исторического и историко-культурного процесса и ставящие под сомнение будущее ("Палтус", "Der Butt", 1977; "Крысиха"; Толоворожденные, или немцы вымирают", "Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus", 1980).
Наконец, последнюю тематическую фазу составляют произведения, посвященные событиям воссоединения Германии в свете исторического прошлого: повесть "Крик жерлянки" , ("Unkenrufe", 1992) и вызвавший скандальную реакцию у критиков роман "Ein weites Feld" (1995).
В эти условные периоды не вписываются два разных по своему временному охвату произведения: повесть "Встреча в Телыте" ("Das Treffen in Telgte", 1979), имеющая концептуальную значимость для поэтики Грасса — наслоение и взаимоуподобление как двух веков, XVII и XX, так и двух авторских масок, барочного Гриммельсхаузена и собственно Грасса; и роман "Мое столетие" ("Mein Jahrhundert", 1999), в котором каждая глава соответствует определенному году и который хронологически, чередой разных, не связанных между собой, лиц и событий выстраивает весь XX век.
При относительно ощутимом варьировании тематики и смене философских ориентиров (часто пародийного характера) — от мотивов "коллективной вины" до "вечного возвращения" исторической конъюнктуры и мотивов Последнего дня — поэтика гротеска качественной эволюции не претерпевает, хотя далеко не все произведения Грасса можно считать гротескными, а гротескные произведения созданы не по единому шаблону. Речь, однако, идет о поливариантности гротеска, о существовании нескольких его разновидностей. "Расширенная реальность" — это не только сфера эмпирического мира, но и чисто литературного, и гротеск у Грасса имеет преимущественно интертекстуальную природу и предполагает игру с предшествующими текстами. Гротескное остранение может возникать при взаимодействии используемых автором чужих текстов или мотивов, что вызывает дополнительный пародийный эффект, или, если в заимствованном тексте гротеск изначально заложен, художественный мир Грасса может формироваться под влиянием чужого гротеска. То есть особенности гротеска в произведениях Грасса зависят от того материала, на который так или иначе опирается писатель. В большинстве случаев в одном и том же произведении можно обнаружить сразу несколько разнотипных источников гротескно-фантастического остранения, и от читателя требуется, прежде всего, выбор одной из имеющихся исходных модальных позиций. В заданном режиме литературной игры Грасс считает восприятие читателя основным условием существования произведений: "Книга требует от читателя сотворчества. Он обязательно должен привнести что-то свое. Без него книга просто не сможет существовать. Читатель должен заново вообразить то, что уже написано" [18:366]. Анализ творчества Грасса поэтому должен быть сопряжен с интерпретацией читательского рецептивного участия в предложенной автором игре.
Гюнтер Грасс — один из наиболее изучаемых авторов XX столетия. Сначала литературоведческий интерес вызывала, как правило, историко-политическая тематика в его творчестве. Время выхода в свет его первых произведений предопределило приоритетный предмет исследования — осмысление прошлого и вопрос вины. В дальнейшем творчество писателя рассматривалось в разнообразных аспектах: помимо собственно поэтического анализа произведений Грасса (X. Броде1, Т. Ангенент2, Кр. Ауффенберг3) и историко-политического (Ф. Рихтер4), разрабатываются психоаналитическое (Г. Юст5, Т. Книше6), социально психологическое (Г.Цепл-Кауфманн7, Д.Штольц8), мифологическое (М.Дурцак9, П.Ройффер10, Н.Ремпе-Тиманн11), тендерное (Т.А.Ларсен12, К.Майер-Исванди13) направления.
Хотя уже в ранних монографиях (Ф.-Р. Рихтер14) предпринималась попытка проанализировать некоторые ключевые компоненты поэтики творчества Грасса (монтажность, мозаичность образов и действительности), что приближало к постановке вопроса о своеобразном гротескном художественном типе сознания писателя, этот аспект остался вне специального рассмотрения. При этом сам термин "гротеск" и близкие к нему понятия (абсурд, комическое, фантастическое, фантастический реализм) встречаются в большинстве критических и литературоведческих работ.
Георг Юст (1972) представляет художественный мир Грасса как систему "объективных коррелятов" — психологических процессов, сведенных к предметам эмпирической реальности и имеющих большую степень символичности. Юст обращает внимание на фантастичность и гротескность образа Оскара, протагониста "Жестяного барабана", как на формальный структурный элемент повествования. Понятие "гротеск" при этом Юст вводит условно, считая его мало изученным; эффект гротеска он понимает как эффект обманутого ожидания, крайнего, внезапного удивления читателя: как только читатель привыкает к фантастическим моментам или они становятся прогнозируемыми, гротеск исчезает вовсе. Вольфганг Прайзенданц15 специально исследует вместо феномена гротеска часто пересекающееся с ним понятие комического (смехового), видя в нем основу параллельного изложения истории жизни персонажей и истории Германии: при воссоздании прошлого исторические события и потрясения редуцируются до повседневных обывательских неурядиц; за счет нарушения хронологии и логики повествования появляется адекватная картина (трагикомического) хаоса эпохи нацизма. Достаточно полно представлена повествовательная специфика Грасса Ренатой Герстенберг16: она анализирует различные аспекты художественной манеры писателя, останавливаясь, в том числе, и на фантастических, гротескных и бласфемических компонентах создаваемой им модели действительности. Большое значение придается визуальной особенности мировосприятия Грасса, пространственно-временному и модальному полю с учетом влияния на его творчество пикарескно-барочных традиций и кинематографической поэтики.
Иную позицию в истории восприятия Грасса, кардинально отличную от традиционных интерпретаций, сводящих творчество писателя к аналитическому изображению историко-политической картины мира, занимает Андре Фишер17. В основе его подхода лежит игровая трактовка творчества Грасса (в частности, "Жестяного барабана"), концепция карнавализации исторического процесса и рассмотрение описываемых событий в рамках гротескно-смеховой культуры. Фишер понимает гротеск не просто как способ вызвать у читателя чувство ужаса и отвращения, что обычно можно встретить у исследователей Грасса, а как "эстетический композиционный принцип" [19:100] с присущими ему "игровыми элементами". Автор монографии также возражает представителям немецкого, традиционно идеологизированного, литературоведения, считающим тематику Грасса слишком серьезной и ответственной, чтобы в ней можно было видеть игровую концепцию.
В отечественном литературоведении имя Грасса хотя и давно известно, но специальных монографических исследований его творчества нет. Можно предположить, что Грасс мало переводился на русский язык и не вызвал особого научного интереса именно в силу гротескного понимания расколотой противоречиями действительности, которое не сочеталось со стабильной советской идеологией. Существующие работы обнаруживают тенденцию к раскрытию не только традиционной философско-политической тематики, но и, в большей степени, художественного своеобразия Гюнтера Грасса. "Самую броскую черту его таланта" [2:5] А.В. Карельский (1985) видит в "устойчивой наклонности к эффектам гротеска, даже шока" [2:5]. Несмотря на то, что "грассовскими гротесками" Карельский называет отдельные ситуации или эффекты, в то же время он говорит о гротеске как о типе поэтического сознания писателя, "даре проникать внешний покров вещей" [2:5] "в форме буффонного выворачивания наизнанку всех высших ценностей" [2:9]. Основой поэтики Грасса И.В. Млечина (1997) также считает "гротескно-фарсовый характер" [20:11]; она подчеркивает в гротескности его художественного мира "сочную раблезианскую полноту жизни" [20:8] (хотя, как уже было отмечено, следует говорить скорее о стремлении писателя к "раблезианской полноте жизни", чем о ее достижении) и близость Грасса к художественной манере Гриммельсхаузена, к его стихии "мелких, преимущественно гротескно-фантастических эпизодов" [20:10]. Поэтику Грасса рассматривал А.М. Зверев (2000) в контексте смеховой культуры XX века, в ее трагическом аспекте: гротеск Грасса — это знак времени, он объясняется "особенностями дарования, но не в меньшей мере осознанно выбранной позицией" [21:30]. Главное у Грасса, считает Зверев, "философия, выраженная посредством системы гротескных образов и художественных мотивов, почти неизменно связанных с концепцией "амбивалентности" всех главенствующих категорий и понятий, которыми определяется существование человека в истории" [21:36]. В.А. Пронин (2002) видит истоки гротеска Грасса, "оригинальность манеры" [22:9] писателя именно в традициях карнавальной культуры и его близости поэтике барокко [см. 22:8].
В настоящей работе впервые предпринимается целенаправленная попытка специально исследовать художественный статус гротеска в творчестве Грасса. Поскольку в немецком литературоведении Гюнтер Грасс рассматривается преимущественно как политизированный писатель, гротеск в его творчестве трактуется однопланово, как форма негативистского отношения к истории Германии и современному обществу. Однако такой подход узок. Произведения Грасса, перенасыщенные гротескными сценами, моделируют единую, функционирующую по определенным правилам, гротескную космологию, целостную картину противоречивого бытия, построенную на поливалентности действительности, на алогичном взаимодействии ее разнородных пластов. Это позволяет видеть в гротеске Грасса элементы жанровой специфики, понимать его не только как часто повторяющийся стилистический прием, но и как, в конечном итоге, жанрообразующее начало [см.23:83]. Представляется логичным, что гротескный тип художественного сознания писателя порождает и соответствующую целостную художественную форму специфического жанрового образования, как это, по-иному, произошло в творчестве Рабле, Сервантеса и Гриммельсхаузена. Кроме того, такая постановка вопроса предусматривает более адекватный анализ всей картины художественного мира Грасса.
Методологическая стратегия настоящей работы предполагает комплексное исследование гротеска Грасса как жанромоделирующего начала с учетом его историко-поэтического аспекта и игрового (стилизованного, как правило, в ключе барокко) подхода автора к творчеству. Жанровый потенциал гротеска исследовался и в отечественном, и в зарубежном литературоведении, ориентирующемся при интерпретации конкретных авторских художественных систем на изменчивость жанрового канона. В общеметодологическом плане в диссертации использовалась концепция гротеска М. Бахтина, акцентирующая изначально игровую природу гротеска и затрагивающая его качественное преобразование в последовавшие за Возрождением и барокко эпохи при сохранении древней "жанровой памяти" [11:54]. Ценными были отдельные суждения В.Кайзера ("Гротеск в живописи и литературе") о модернистских формах гротеска и, прежде всего, рассмотрение его жанровой структуры, включающей читательское восприятие; а также анализ Цв.Тодорова ("Введение в фантастическую литературу") гротескно-фантастического в литературе и определение его жанрового статуса, предусматривающее гибкость жанровых моделей.
Исследование состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. Структура работы обусловлена спецификой анализа творчества Грасса с точки зрения изучения гротеска как жанрообразующего начала: вслед за введением, в котором обосновывается постановка проблемы и рассматривается своеобразное мироощущение писателя, продиктованное в том числе и типичным для немца XX века жизненным опытом, анализируется выбранная Грассом авторская маска и связанный с ней гротескный принцип моделирования художественной реальности по выбранным автором правилам. Во второй главе на основе интерпретации наиболее значимых произведений писателя прослеживается механизм гротескного очуждения картины мира и выявляется типология гротеска, базирующаяся на выделении самим читателем (непременным участником игрового создания гротескного мира) доминирующего элемента в системе протагонист — эмпирическое — фантастическое как того или иного источника остранения эмпирической действительности. В заключении подводятся итоги исследования.
Гротеск и хронотоп "четвертого времени"
Приблизиться к пониманию того, что представляет собой такое древнее и непреходящее явление культуры как гротеск в творчестве Гюнтера Грасса, писателя современности, значит коснуться сразу нескольких аспектов его творчества. Феномен гротеска, менявшего с течением времени свои дефиниции, не только продолжает переосмысляться, но и сохраняет свои исторические корни: архетипичное, традиционное и авторское, новое соединяются в различных пропорциях. При этом очень важным, смыслополагающим моментом остается вопрос назначения, цели гротескного остранения, который при интерпретации творчества Грасса, как правило, решается в большинстве случаев однобоко — как сатирическое осмеяние мира XX столетия.
Гротеск Грасса, однако, функционирует более сложным многоплановым образом, чем простой периодически используемый стилистический прием, необходимый для достижения требуемого художественного эффекта. Причина того, что на первый план в творчестве писателя немецкое литературоведение долгое время выносило его политическую ангажированность, реакцию сатирика на злободневность и тлт., отчасти заключается в том, что доступное авторское разъяснение своей эстетической программы появилось через двадцать лет после выхода в свет и (скандального) успеха его первых, наиболее гротескных, произведений ("Жестяной барабан", 1959; "Кошки-мышки", 1961; "Собачьи годы", 1963), объединенных в "Данцигскую трилогию".
Ключом ко всем объемным, прославившим Грасса "дерзко-мрачным притчам", можно считать небольшую повесть "Встреча в Телыте", написанную по случаю 70-летнего юбилея Ханса Вернера Рихтера (1979), основателя послевоенной литературной "Группы 47". Здесь Грасс указывает на ту позицию, которую он занимает по отношению к литературе, действительности, читателю, да и собственному авторству, и которая также ожидается от читателя, — это позиция homo ludens: для своего творчества писатель выбирает режим литературной игры.
Гюнтер Грасс, несмотря на свою политическую ангажированность и серьезность затрагиваемых им проблем, выражая тенденции современной "игровой эпохи" (Й.Хёйзинга), ориентируется на так называемого идеального читателя , способного уловить в увлекательных, невероятно запутанных макабрических историях призыв к игре и принять действующие в творчестве писателя правила. Игра, которую Грасс предлагает идеальному читателю , называется "Vergegenkunft", или "четвертое время", причем читателю, как в большинстве современных виртуальных игр, предлагается на выбор два уровня. Хронотоп "Vergegenkunft" может в облегченном варианте трактоваться как синтез времен, как принцип исторической взаимообусловленности разных периодов, а также как фантазийное преодоление эмпирически невозможного. "Желание устранить время, находиться в каждый момент якобы прошедшего, якобы будущего — в настоящем" [1:22] Грасс сравнивает с "детским желанием человека уметь летать, оставаться ребенком, быть невидимым" [ibid.]. Такая потребность в необычном, по мнению Грасса, совершенно естественна и поэтому ее нельзя вынести "за рамки нашей реальности" — по крайней мере, в его творчестве эти мечты сбываются. Правда, в контексте "дерзко-мрачных притч" они лишаются безобидного волшебно-романтического оттенка.
На уровне метафизическом изобретенное Грассом "четвертое время" не совмещает события, а вовсе отменяет меру времени и обозначает в творчестве писателя концепцию вневременного, а значит, онтологически значимого художественного пространства. При этом, даже если достигается синтез доисторических мифологических и грядущих эпох, это наслоение происходит в эсхатологической плоскости — в один из зафиксированных Грассом моментов наступления Конца и переполнения мира апокалиптическим Злом.
Тема обреченности человечества и ожидание Суда в той или иной форме присуща всему творчеству Грасса. Кроме того, каждое произведение писателя, обладающего достаточной теологической эрудицией и свободно пародирующего Библию, представляет отдельные проявления и события Апокалипсиса. Время в притчах Грасса течет условно, оно всегда заключено во вневременные статичные повествовательные рамки архивных документов: мемуаров, дневников, исторических хроник, фотографий, рисунков, видео- и кинофильмов. Грасс, любитель анализа фактографического материала, вводит в свои фантастические истории эти документы как множество неоспоримых, но, однако противоречащих друг другу, свидетельств о человеческих деяниях для предъявления на последнем Суде. Книги писателя, представляющие благодаря этому произведение в произведении , втянуты в своеобразный интер- и интратекстуальный круговорот; тексты, герои, мотивы находятся в состоянии свободного движения, вступая в непредсказуемые соединения и преобразуя все творчество в цельную мировоззренческую систему взаимозависимых элементов. Символически обобщенная модель этой метареальности со всеми колебаниями возможного, не доступная человеческому пониманию, представлена в виде Архива (роман "Ein weites Feld", 1995), которым и заведует автор Грасс. Вневременной архив притягивает к себе героев-правдоискателей обилием имен и фактов. Это мистическое учреждение может фигурировать как частный фотоархив ("Жестяной барабан", 1959), как архив Штази (госбезопасности ГДР) и литературный архив ("Ein weites Feld") или как виртуальный архив в Интернете ("Im Krebsgang", 2002), однако речь всегда будет идти не о конкретных стеллажах, а об универсальном гиперпространстве, воплощающем историческую и литературную память человечества от начала Бытия. Исследовать и оценивать вместе с читателем такого рода поливалентное гиперпространство, представляющее собой сложное комбинирование разных полей (философского, фантастического, исторического, литературного и интерактивно-игрового) и сложное сочетание эмоциональных установок (дерзкой радости творчества и мрачности описываемого) и есть задача Грасса.
Гротеск как результат творчества протагониста
Наиболее своеобразный тип гротеска Грасса, по своим жанровым особенностям наиболее барочный, представлен серией его романов о художниках ("Жестяной барабан", "Собачьи годы", "Крысиха"), которые берут на себя функцию соединения объективной и фантастической реальности. Их творческая программа базируется на приведении бытия к непознаваемому состоянию предвечного хаоса. Каждый протагонист создает в произведении Грасса свое собственное произведение: пишет книгу, работает над театральной постановкой или снимает фильм — об иллюзорности и неопределенности современной эпохи.
Реальность таких получающихся художественных продуктов, сознательно задаваемая героями, варьируется от документальной, выстраиваемой строго по имеющемуся в фотоархиве рассказчика материалу ("Жестяной барабан"), до собственно волшебной сказочной ("Крысиха"); промежуточным связующим этапом в этом процессе можно считать аллегорическую, стилизованную под Иеронима Босха балетную инсценировку ("Собачьи годы"), метафоризирующую барочный theatrum mundi.
Главным фактором при возникновении поливалентного пространства становится артистическая, почти провокационная, мотивация: стремление протагониста — творческой ипостаси Грасса — к игре (с психологическими и философскими компонентами — страхом, абсурдом, фантастическим, комическим), к экспериментированию, поиску новых средств выразительности — как правило, за счет модификации уже существующих текстов и пародийного использования традиционных форм. В этом типе искажения реальности прослеживается четкий, структурно выверенный алгоритм, предполагающий возникновение неожиданных смыслов на базе сочетания разнородных деталей. Свою (вторичную) гротескно-фантастическую действительность протагонисты-творцы конструируют, обращаясь к техническим возможностям материала, способного к всякого рода превращениям, то есть подходящего для фрагментирования и последующего монтажа получившихся частей в алогичную и акаузальную онтологическую систему. Таков внутренний потенциал фотографии, кинематографа, реквизита марионеточного театра.
Насколько важную роль в моделировании этой дисгармоничной гротескной картины мира играет созидательно-разрушительное Я протагониста, манипулирующее своей историей и стоящее над всеми образами и событиями, может показать типологическое сравнение гротескности "Жестяного барабана" Грасса и одноименного фильма Фолькера Шлёндорффа (1979) . Выбранная Шлёндорффом (ввиду естественных трудностей при переходе на другое средство художественной коммуникации) повествовательная перспектива исключает авторство героя-мемуариста: хотя голос рассказчика за кадром и комментирует происходящее, имитируя процесс вспоминания, но он никак не может заменить образ повествователя от первого лица, пишущего книгу и сопровождающего это написание характерными — часто ироничными — профессиональными поэтическими ремарками. Действительность в фильме Шлёндорффа не лишена гротескной окраски, но она не имеет логического соприкосновения с привычной действительностью, указывающего на формальный источник остранения, и история героя воспринимается в рамках собственно фантастического жанра, как цельная картина функционирующей по не зависящим от воли рассказчика законам виртуальной реальности.
Такой однозначной модальной целостностью действительность романных героев-творцов не обладает. Претендуя, с одной стороны, на достоверность и миметическое правдоподобие, с другой стороны, имея абсолютную власть над художественной образностью, они растаскивают бытие на отдельные картины-декорации, аллегорические роли, маски и механизированных неодушевленных или одушевленных, но, тем не менее, искусственно созданных артистов-исполнителей.
Гротеск как проявление бессознательного
Гротескный художественный мир возникает в произведениях Грасса не только в результате сознательного монтажа героями фрагментов действительности, но и в результате взаимодействия человека и иррациональных стихий. Такой подход к действительности и соответствующие поэтические средства остранения традиционны для эпохи романтизма и особенно часто встречаются у Э.Т.А. Гофмана: выходящие за пределы повседневного события описываются в рамках физиологически нормального, естественного отключения человеческого сознания. Состояние "сна разума" — видения-галлюцинации при анестезии ("Под местным наркозом"), сон ("Крысиха"), безумие ("Ein weites Feld") — формально объясняет нарушение ожидаемых привычных взаимосвязей действительности и укоренения в ней фантастических элементов, противоречащей логике и здравому смыслу мотивации персонажей.
Произведения этого типа гротеска также включены в игру писателя с эпохой барокко, но (за исключением романа "Ein weites Feld", парафразирующего "Дон Кихота" Сервантеса) указания на общую барочную тональность имеют здесь имплицитный, часто зашифрованный характер: это может быть упоминаемая вскользь барочная музыка, радиопередача о литературе барокко или древний принцип построения образов из человеческих и животных элементов.
Выход из системных отношений рационалистически воспринимаемой, однако, хаотично устроенной реальности Грасс считает не бегством от обыденности, а основным условием для активизации познавательного процесса. По мнению Грасса, никогда не существовало разума в чистом виде, он сам давно стал мифом — "трансцендентировал" [1:20]. Иррациональность, фантастичность, присущая усыпленному сознанию, указывает на другие грани поливалентного бытия (а не на его противоположность), на наличие "двойного фундамента нашей реальности" [1:22], что предполагает также и неоднозначную сущность индивида, неоднозначное содержание правды, вариативную логику и каузальность.
В виртуальном мире, возникающем или становящемся зримым при интенсификации работы бессознательного, происходит смешение разнородных эпизодов, времен, частных ассоциаций и проекций. Здесь доминирует иной подход к возможностям восприятия действительности — интеграция игнорируемых рационалистическим знанием компонентов. Непредсказуемое функционирование человеческой психики, обусловленное историческим и индивидуальным опытом, позволяет компенсировать узость и неполноценность доступной разуму картины мира, эксплицируя вытесняемое.
При этом, однако, для такого типа гротескных произведений Грасса характерно существование и, как правило, более или менее четкое разграничение двух реальностей — привычной, исторической, в которой протагонист появляется впервые и которая становится для него исходной; и фантастической, куда герой попадает лишь во вторую очередь, всегда отталкиваясь от объективной. В случае анестезии и безумия, то есть клинических состояний ("Под местным наркозом", "Ein weites Feld") герой-пациент находится в противостоящем ему окружении медиков и лиц, однозначно принадлежащих к сфере обыденности. Именно эти здравомыслящие персонажи, сопровождающие неадекватного героя на протяжении всей книги, и задают привычную повседневную реальность произведения, которая оттеняется разного рода видениями и навязчивыми представлениями.
Ситуация с повествовательной перспективой, обусловленной сном рассказчика ("Крысиха"), поэтологически намного сложнее. В романе имеется указание на начало сна, то есть на закономерный и физиологически объясняемый отрыв от объективной реальности и переход в реальность фантастическую (состоящую из сменяющих друг друга психологически закодированных картин), но завершается роман не пробуждением героя, как, например, у Э.Т.А. Гофмана, а торжеством объекта сновидений, вымышленного существа, претендующего на реалистичность и на роль сновидца. Исход борьбы спящего рассказчика и плода его воображения за авторство остается неясен, и виртуальное пространство опоры в эмпирическом мире не находит. В этом смысле происходящее здесь в большей степени остранено и гротескно, чем при уже упомянутых медицинских патологиях, так как конец романа ставит под сомнение реалистичность сна как изначально предложенный читателю ориентир. С одной стороны, повествовательные рамки сна сами собой распадаются, поскольку повествователь и предполагаемый объект его сновидений отрицают друг друга; но с другой стороны, сон никто не отменяет, хотя бы потому что сновидец до последнего абзаца безнадежно погружен в смоделированный Грассом по всем правилам психоанализа сон, который становится композиционной доминантой романа в целом.