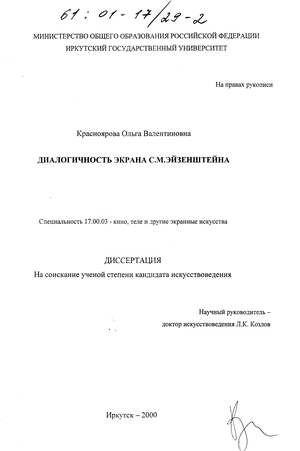Содержание к диссертации
Введение
РАЗДЕЛ 1. Двупланность содержания экрана С.М.Эйзенштейна 6
РАЗДЕЛ 2. Монтажное сгущение смыслового поля 17
РАЗДЕЛ 3. Взаимоотношения внешнего и глубинного планов содержания 34
РАЗДЕЛ 4. Воздействие внешнего и глубинного в «Броненосце «Потемкине»... 45
4.1. Избыточность внешнего воздействия 46
4.1.1. Субъективность экрана на внешнем уровне восприятия 46
4.1.2. Идентификация и трансформация 56
4.2. Глубинное воздействие и восприятие «изнутри» 68
4.2.1. Символы общего слоя культуры 68
4.2.2. Архетипные образы 75
РАЗДЕЛ 5. Восприятие и воздействие «Ивана Грозного» 84
5.1. Избыточность внешней «точки зрения» зрителя ; 84
5.1.1. Чувственное проникновение в «объективную» реальность персонажа.. 84
5.1.2. Внутренняя реальность персонажа и его внутренняя речь 101
5.1.3. Трансформация образа Ивана Грозного 106
5.2. Глубинное воздействие и восприятие «извне» фильма «Иван Грозный».. 111
РАЗДЕЛ 6. Экран — зритель: эффект взаимодействия 126
РАЗДЕЛ 7. «Мир впервые» в диалоге с экраном 137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 151
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..' 153
ФИЛЬМОГРАФИЯ 160
- Двупланность содержания экрана С.М.Эйзенштейна
- Монтажное сгущение смыслового поля
- Взаимоотношения внешнего и глубинного планов содержания
- Избыточность внешнего воздействия
- Избыточность внешней «точки зрения» зрителя ;
Введение к работе
Актуальность проблемы
На фоне социальных взрывов и развития массовых коммуникаций проблема воздействия визуальных искусств на аудиторию приобретает все более обостренное звучание. В этом контексте закономерными являются значительно возросшие за последнее десятилетие интерес и внимание к кинематографу С.М.Эйзенштейна. Теоретические исследования и произведения художника привлекают сформированной в них программой целенаправленного воздействия на зрителя.
Столкновение противоположного, обусловленное структурой фильмов СМ. Эйзенштейна, особенностями его поэтики, двупланность содержания - всё это создает эффект динамичного восприятия. Диалогичность взаимоотношений экрана и зрителя обусловлена как своеобразием содержания эйзенштейновских кинопроизведений, так и суггестией глубинных структур. Иначе говоря, речь идет о воздействии, в том числе на уровне подсознания.
Однозначное рассматривание творчества художника в срезе темы «кинематограф насилия и насилие кинематографа Эйзенштейна» придавало проблеме мнимо-политический аспект. Сегодня особенно важно подчеркнуть, что СМ. Эйзенштейн стремился изменить и расширить сам предмет эстетического переживания. В исследовании предпринимается попытка интерпретации контакта фильмов Эйзенштейна со зрителем - за счет диапазона эстетического переживания, которое происходит во взаимодействии внешнего и глубинного, реализующегося в зрительских открытиях.
Объекты и методы «Броненосец «Потемкин» и «Иван Грозный» выбраны как объекты анализа. Известно, что и для самого СМ. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» был точкой отсчета в его теоретических изысканиях. «Броненосец «Потемкин» в полной мере фундаментален в проявлении природы «строения вещи». А «Иван Грозный» стал ключевым и итоговым произведением художника. Именно в «Грозном» воплотились те идеи, мечты и гипотезы, которые рождались и обосновывались в момент создания, а затем и осмысления «Потемкина». Данное исследование опирается только на эти два фильма еще по одной принципиальной причине. «Иван Грозный» традиционно всегда трактовался как «двойственный» фильм. При этом двойственность нередко рассматривалась как изъян в художественном целом. С другой стороны, «Броненосец «Потемкин» - напротив прочи- тывался как чуть ли не самый однозначный продукт советской эпохи и кинематографа, хотя нес в себе обобщающие и глубинные, извечные мотивы жизни и смерти, тему человека убивающего и убиваемого, многозначно резонирующие в смысловом поле фильма. В той и другой картине определенная двупланность содержания и двойственность воздействия (глубинного и внешнего) дают возможность рассмотреть особенности воздействия и восприятия творчества Эйзенштейна.
Мы обращаемся к анализу процесса воздействия, при котором двойственность, противоречивость, контрапункт, конфликт, одновременность существования противоположного, прочитываются не как изъян, а как сущностная особенность фильмов СМ. Эйзенштейна.
Научная новизна
Проблема диалогичности экрана исследуется на основе методики самого СИ. Эйзенштейна, который моделирует ситуацию таким образом, чтобы зритель оказался перед выбором собственного отношения к событиям, происходящим на киноэкране, и осмысления их. Истоки диалогичности рассматриваются, с одной стороны, в семантике киноизображения, а с другой - в особенностях суггестии экранных образов. Диалогич-ность фильмов СМ. Эйзенштейна исследуется в общекультурном контексте; их темы и мотивы актуализируют предельную ситуацию: «человек - насилие - смерть», и определенным образом резонируют в восприятии фильмов современным зрителем.
Цель данного исследования - изучение истоков диалогичности экрана СМ. Эйзенштейна, поиск определения и обоснования расширения эстетического переживания, которое происходит во взаимодействии внешнего и глубинного, реализующегося во множественном развертывании глубины смысла фильмов в зрительских откровениях своего «со-бытия» с миром. Кинофильм осуществляет свое бытие только и единственно в зрительском восприятии, эта данность становится все более актуальной в кинотеории. Внешнее воздействие, в некотором смысле, выполняет функцию входного билета. Оно всегда актуально и действенно, поскольку определяет начало взаимоотношений фильма и зрителя. Оно работает на власть «истории», которая влечет и захватывает зрителя. Но это всего лишь «входной билет». Воздействие глубинное, «изнутри» не детерминировано как данность внешнего, но, в конце концов, и определяет эмоциональное существование фильма во времени. Так как освещает внешнее неким постоянным вопросом из глубины. Это мерцание неактуального - есть вневременная актуализация внешнего.
Глубинное воздействие несомненно работает на экзистенциальное, «человечное», но уже в ином измерении - как бы надвременном, вечном. Заметим что, как в 30-е годы, так и сегодня, некоторая часть кинозрителей видит в «Броненосце «Потемкине» СМ. Эйзенштейна только внешнее - социально-политическое, идеологическое. В небольшой книжке А.В.Трояновского и Р.И.Егиазарова 1928 года, к примеру, удивляет одна цитата зрительского отклика: «Содержание фильма надоело по другим фильмам» [1928, С. 18]. Эта цитата отклика зрителя 30-х годов подтверждает в какой-то мере, что внешнее воздействие не исчерпывает суггестии «Броненосца «Потемкина», если только не подразумевать под внешним воздействием лишь влияние социально-злободневного содержания и специфическую особенность воздействия, выражающуюся в насильственном вовлечении зрителя в экранное действие, о котором даже не спорят, а просто констатируют. Но и глубинное воздействие также не определяет целиком суггестию экрана, ведь оно реализуется тогда, когда внешнее совершит свою миссию. Воздействие «изнутри» актуализирует внешнее, но и обратно - актуализируется через внешнее. Эти взаимно направленные силы противоборствуют и согласуются, что и рождает неповторимое движение фильма во времени.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, семи разделов, заключения и фильмографии, изложена на 160 страницах. Содержит 22 иллюстрации. Список использованной литературы включает 110 наименований.
Двупланность содержания экрана С.М.Эйзенштейна
Фильмы СМ. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» и «Иван Грозный» обладают уникальной смысловой глубинностью. Так, в «Броненосце «Потемкине» мы видим не только ситуацию, обусловленную социально-временными и историческими обстоятельствами, но также экзистенциальную ситуацию, обращенную к нам вечными вопросами жизни-смерти. Те же изначальные вопросы бытия звучат в смысловом пространстве «Ивана Грозного», где в одном пласте содержания структурируются символы и знаки абсолютной власти, а в другом плане низвергаются, поскольку последовательно вскрывается её не-человеческая, не-бытийная, разрушительная сущность. Такая двупланность содержания выводит частное (социально-временное) в общее (вечное, вневременное). Для художника масштаба СМ. Эйзенштейна этот подход закономерен.
И такая двупланность не отменяет, а определяет, подразумевает целостность смысловой структуры. Благодаря этому построению фильмы СМ. Эйзенштейна подобно шекспировским трагедиям изначально были устремлены к зрителю всех эпох и социальных реалий, к зрителю, познающему константы общечеловеческих ценностей, основы бытия. Кинозритель конца 20 века не может разрушить смысловое пространство этих картин, поставив на них печать - не актуально, устарело, отмерло. Смысловое пространство фильмов сохраняет культурную активность (ту, о которой писал Ю.М. Лотман, размышляя о функциях художественного текста). Они не являются застывшей и равной самой себе данностью, исключающей многозначность, напротив являются генератором новых смыслов и конденсатором культурной памяти [Лотман, 1999].
Двупланность определяет целостность смысловой структуры, потому что внешний и глубинный планы и противоположны и сопоставимы, а следовательно на определенном уровне едины. Речь идет о той двуединости, о которой так много писал СМ. Эйзенштейн, обращаясь к образу и природе искусства. Двупланность эйзенштейновско-го экрана проявляется в амплификации, ведущей к одновременности построения в целом и частях.
В работе «Режиссура. Искусство мизансцены» Эйзенштейн отмечал, что искусство амплификации предначертано еще Флобером, утверждавшим, что произведение должно слагаться не как творение мозаиста, инкрустирующего свои драгоценные каменья извне, но изнутри (не от нутра, а именно изнутри — уточняет Эйзенштейн!), как ветвь, разрастающаяся вширь своими отростками и листьями [Эйзенштейн, 1964-1971. T.4. C.226]. Мозаика в данном случае являет суммирование, но не многопланность, «многоуровенность». Амплификация же обусловливает напряжение, динамику взаимоотношений внешнего и глубинного. В амплификации целого — развертывании целого во множественной детализации, где через деталь выявляется целое — открывается поле столкновений, где смысловая перспектива находится в напряжении, динамике, подвижности, потому что актуализация обобщенного в детали способно как бы расслаивать смысловую перспективу.
Обратим внимание на характерную для эйзенштейновских немых фильмов множественность, количественность сцен, репрезентирующих как будто одно и то же содержание, что порой оборачивалось довольно странным результатом. Так, в эпизоде «избиения драконов» множественность сцен, вновь и вновь повторяющих картины расправы, ведет к перефокусировке зрительских эмоций на другие, амбивалентные чувства — от жажды мести к жалости и сожалению. Избыточность, таким образом, порождает двойственность ощущений зрителя, раздвоенность воспринимающего. Еще в 30-е годы И.А.Аксенов писал, что «хладнокровные критики» беспокоились за результат реакции зрителей на жестокую сцену расправы матросов над офицерами. Безусловно, у современного зрителя переизбыток насилия, действительно, вызывает реакцию если не сочувствия офицерам, то по крайней мере неприятия этого насилия.
Избыточность содержания в сцене «избиения драконов» через множественность эпизодов расправы, их накопление почти что в арифметической прогрессии, открывает формальную механику некой двойственности; в которой своеобразно обнажается двупланность содержания сцены, где в одном плане звучит пафос возмездия и жизнеут-верждения, стремления к свободе, а в другом, глубинном, — страшная деструктивная сущность сцены насилия и смерти. Вспомним сцену расстрела на Одесской лестнице и эпизод гибели мальчика Абы. Данный эпизод является «частной деталью» общей картины. Но к строю солдат-убийц добавляются «слепые» ноги обезумевших от страха бегущих людей, затаптывающих мальчика. И в данном случае мы можем утверждать, что эти кадры (показывающие, как на руку ребенка наступает сначала одна нога бегущего человека, затем хрупкое тельце давят мужские и женские ботинки) создают определенный семантический сдвиг, также открывающий двупланность содержания. Жертвы становятся такими же убийцами. Смысловое поле эпизода, становясь избыточным, расширяется. А зрительскую реакцию на эти кадры сложно обозначить лишь как классовое чувство гнева, вызываемого только строем солдат-убийц. Скорее всего это ужас перед хаосом насилия вообще (во всяком случае, в данный момент эпизода это действительно так).
К этим кадрам можно относиться только лишь как к «перебору» в изображении. Но такое изображение нагнетает новый смысл, новую семантику, выходящую за рамки необходимого, нужного контекста эпизода. Создается сверхконтекст, отслаиваемый от основного. В таком случае это изображение, являющееся деталью, подробностью, излишне. И оно открывает некий балласт «излишнего» содержания. Но чтобы обозначить действительную роль избыточного детализирования в раскрытии двупланности содержания, обратимся к проблеме функциональности детализированного изображения.
Монтажное сгущение смыслового поля
Монтажное движение фильма есть существо того, что зритель воспринимает, а воспринимает он прежде всего некую «историю». Кристиан Метц отмечал: «Власть «истории» заходит так далеко, что изображение, которое согласно некоторым работам составляет сущностную инстанцию кинематографа, вовсе заслоняется создаваемой им интригой, так что кинематограф оказывается искусством изображений лишь теоретически» [Метц, 1993/1994. С.62]. Так или иначе «история» в немых фильмах и производится в монтажном движении, осуществляющем восприятие зрителя.
А именно то, что монтаж изображений осуществляет зрительское восприятие, вызывало множество споров, но не в плане истинности данного положения, а из-за проблемы манипуляции процессом восприятия. Громадный пласт кинотеории, доказавший ведущую роль повествовательности кино, которое «есть речь, независимо от специфического воздействия монтажа», был посвящен настойчивому разоблачению главного «греха» монтажа — манипуляции естественным смыслом, ведущей к разрушению оного. Этот пласт теории, как известно, не отказывался собственно от монтажа и его повествовательной функции, но выступал против «жульничества» монтажа, выделяющего смысл. А.Базен писал: «Анализируя реальность посредством монтажа в его специфическом качестве, режиссер исходил из того, что драматическое событие обладает однозначным смыслом... В общем, монтаж по самому своему существу противоречит выражению многозначности (ambiguite)» (выделено нами. — O.K.) [Базен, 1972. С.93]. Итак, мы оказываемся в достаточно сложной ситуации, доказывая, в общем-то, обратное. Где находятся истоки двупланности, двойственности в монтажном движении немых фильмов?
Казалось бы, точки над «і» давно поставлены, тем не менее взглянем внимательнее на главное основание и положение — монтаж противостоит выражению многозначности, потому что смысл не заключен в кадре, смысл повествования производится исключительно из их сопоставления, то есть однозначно возникает в сознании зрителя как результат монтажной проекции. Убедительные популярные примеры (расстрел + бойня = жестокость; кипящий котел + матросы = закипающий гнев и т.д.) подтверждают позицию, отрицать это бессмысленно. Такова была позиция теоретика Эйзенштейна, который в конце 20-х годов писал о необходимости сопоставления по возможности однозначных, нейтральных в смысловом отношении, изобразительных кадров в осмысленные контексты и ряды. Сосредоточившись на данной стороне монтажных операций, мы игнорируем наличие их обратного эффекта, где равным образом возможна не только потеря, аннулирование естественного смысла, но и «возвращение» оного! Уточним, речь идет именно о специфических явлениях в эмпирике монтажного движения немых фильмов С.М.Эйзенштейна (в наши задачи не входит вовлечение «материала со стороны», хотя это и соблазнительно, и невероятно интересно). Практика всегда вносит изменения. Ведь таких сопоставлений действительно нейтральных изображений (манометры — матросы) в практике Эйзенштейна не так много, как кажется. А потеря «естественного смысла» в монтажных сопоставлениях кадров не всегда происходит как таковая, при этом возникает и парадоксально (относительно парадоксально) иное!
Но для начала рассмотрим такой «заурядный» монтажный кусок, в котором нет столкновения кадров (хотя он также является характерным для эйзенштейновского экрана), и который не дает оснований предполагать наличие смысловой перспективы не имманентной изображению. К примеру, после титра «Палатка на новом молу в Одессе — последняя пристань Вакулинчука» (монтажный кусок, заканчивающий часть «Драма на Тендре» и предваряющий часть «Мертвый взывает») последовательно развертывается восемь изображений — 1,6,7,8 — это вид на море из палатки (кроме седьмого), 2, 3, 4, 5 кадры — сначала экспозиция — средний план матроса с дощечкой на груди и свечкой в руках, далее укрупнения — свеча, лицо матроса, ботинки. Данный монтажный ряд является практически слепком, который становится основой развития, точкой опоры части «Мертвый взывает». Средний план матроса, его крупный план, свеча — все эти кадры несколько раз повторяются в последующей части, там они являются предлогом трансгрессии траурного митинга в политический, пружиной механизма трансформации одного действа в другое, одной эмоции в иную. Как бы это резко ни прозвучало, но в части «Мертвый взывает» кадры Вакулинчука являются, в определенном смысле, «инструментом» развертывания повествовательного ряда, в котором главный контекст сосредоточен в изменениях состояния коллективного лица траурной манифестации, тогда как данное монтажное сгущение кадров создает самоценное семантическое поле. Внутрикадровый материал этого монтажного ряда изображений представляет собой, условно, фигуру и фон. Причем фигура мертвого матроса появляется во втором кадре, где зрительным центром является дощечка на груди матроса с надписью «Из-за ложки борща». Сам факт надписи как таковой весьма важен, потому что со всей очевидностью проявляет изначальную «функциональность» изображения мертвого
Взаимоотношения внешнего и глубинного планов содержания
Длительное время контекст анализа двойственности «Ивана Грозного» так или иначе сводился к проблеме отражения в материале «двойственности» взглядов самого С.М.Эйзенштейна, при этом двупланность содержания, определенным образом «раздражающая» зрительское восприятие, оставалась в тени, тогда как оная-то и порождает эстетическую реакцию. Внутреннее противоречие, неизбежно возникающее в процессе восприятия картины (энтузиазм приятия образа героя и пафос его отторжения, его неприятия), обращает внимание на вопрос — почему и как противоположное «сосуществует» в фильме?.. Ясно, что смысл «сосуществования» противоположного заключается в столкновении, которое провоцирует смысловое расширение экранных образов, событий и предопределяет зрительское откровение экзистенциальных вопросов.
В каждой сцене «Ивана Грозного» ощущается напряжение противоборства полярных сил, словно раздирающих надвое наше отношение к Ивану Грозному в противоположных оценках его внутреннего лица и мотивов его поступков. В идеальном образе царя (каковым он выступает в первой сцене) отсутствует индивидуальная реальность Грозного, зрителю предстоит открыть ее. Многие исследователи обращали внимание на то, что внешность персонажей из окружения Ивана Грозного практически не меняется на протяжении всего фильма, в отличие от внешности царя. Внешность персонажей — суть их внутренней неизменной реальности, она открыта зрителю сразу же, тогда как внутренняя сущность Грозного скрыта. Однако с первых же сцен благородному профилю светлого лика царя противостоит тьма внутреннего «не-человеческого» лица Грозного, что окунает зрителя в сферу противоречивых чувств. Вспомним, как страшно меняется светлый лик Гррзного на реплике — «Чтоб слетела — срезать надо!». Мерцание холодной души в жестоком профиле ощущается почти что чувственно и инстинктивно и является действительно важным фактором, нагнетающим раздвоение восприятия образа Ивана.
Жуткий «пейзаж» души на протяжении фильма будет постепенно открываться во внешних изменениях облика Грозного, так или иначе сгущая конфликтность зрительских оценок. В то же время зритель будет постоянно испытывать проблему отождествления лица Ивана Грозного и вследствие неадекватности лица Грозного его поведению. Как, например, в сцене болезни лицо Ивана, наблюдающего за боярами, противоречит униженной мольбе немощного человека. Здесь также обратим внимание на то, что помимо двойственности лица в картине очевидна и двойственность роли, исполняемой персонажем. Например, в сцене отравления Анастасии царь выступает и как жертва, и как убийца, то же и в сцене пира. Вообще можно проследить определенную закономерность в последовательном раскрытии двойственной роли Ивана Грозного, который практически во всех сценах является одновременно стороной защищающейся, обороняющейся и наступающей, нападающей. Это же относится и к окружению царя, в большинстве своем здесь та же самая двойственность исполняемой роли. Основания нападения или защиты героев выявляет мотивацию поведения и поступков. Если линия поведения Старицкой не меняется сущностно — ив начале и в конце фильма она борется за власть для сына, только вот во второй серии фильма эта борьба становится не просто корыстной целью, но условием сохранения жизни («Либо царя убить. Либо самим на плаху ложиться...»); то в мотивационных основаниях борьбы Ивана Грозного происходят такие изменения, которые делают фразу «Ради русского царства единого!», звучащую в последней сцене, совершенно неадекватной тому же политическому лозунгу, провозглашенному Грозным в начальной сцене картины. Произошла трансформация в зрительском отношении к Ивану Грозному, восприятие политического значения мотива уступило место отношению к психологическому содержанию мотива власти Грозного. Если мотивы Ефросиньи Старицкой с самого начала носили личностный характер, то мотивация Грозного открывается таковой постепенно — по мере раскрытия внутренней реальности царя, которая, как мы указывали выше, изначально как бы отсутствует, скрыта. Пустота социального лика царя постепенно заполняется психологическим содержанием, и особенно в важной сцене у гроба Анастасии и в разговоре Ивана с Филиппом, где С.М.Эйзенштейн предельно заостряет конфликтность образа Грозного. Традиционно сцена у гроба рассматривалась критиками как «оправдывающая» Грозного, к чему подталкивал конфликт человека-страдальца с государем для которого интересы государства превыше всего. При этом за видимым внешним планом противоречия человека и государя не замечалось столкновение двух взаимоисключающих лиц одного человека, а не государя. Меж тем в сцене у гроба лицу благородного страдальца противостоит «не-человеческое» лицо Ивана, соизмеряющего смерть единственного близкого с борьбой своей и властью, более того, расчетливо, цинично использующего эту смерть для укрепления власти. «В том призыве всенародном власть безграничную обрету...», — говорит Грозный (и произносит он эту реплику, в отличие от всех остальных, демонстрационно и пафосно провозглашенных, тихо — как будто сам себе). Данная реплика царя достаточно откровенно обнаруживает грандиозный масштаб этой страсти авторитарной личности (кстати, заключительную реплику, которая есть в сценарии, слишком подчеркивающую и обнажающую грандиозность властолюбия и подтверждающую действительную сущность сравнения своей власти с высшей — «все-держателем земным буду!», С.М.Эйзенштейн в фильме не реализовал).
Избыточность внешнего воздействия
Субъективизация экрана на внешнем уровне восприятия Характерная особенность воздействия «Броненосца «Потемкина» — субъективизация экранного события на уровне чувственных ощущений зрителя. Психофизиологические ощущения есть выражение того, что испытывает зритель при виде того или иного изображения. Считается, что психофизиологическая реакция превалирует в восприятии немых фильмов С.М.Эйзенштейна.
Какие раздражители могут вызывать психофизиологическую реакцию зрителя? Известный кадр «червивое мясо» вызывает рефлекс отвращения за счет «неприятности» материала изображения. Болезненно остро воспринимаются все кадры гибели детей и их матерей, воздействующие на изначально нравственные начала в человеке и на от-цовско-материнские инстинкты. Одним словом, реакция определяется раздражителями содержания изображения, но из этого не следует, что раздражитель психофизиологической реакции имеется только в изображениях сцен насилия или кадрах с внутрикад-ровым материалом определенного рода (мясо — черви).
Еще Зигфрид Кракауэр констатировал, что самый вид движения рождает своего рода «резонансный эффект» — у зрителя возникают такие кинестетические реакции, как мускульные рефлексы, моторные импульсы и т.п., а движение материальных объектов действует как физиологический стимулятор органической реактивности восприятия зрителя [Кракауэр, 1974. С.216-217]. Эйзенштейновскому кинопространству вообще свойственна стихия человеческих движений, абстрагированных перемещений масс, предметов, объектов, линий, несомненно, воздействующих на зрителя. Экран насыщен кинетикой. Эйзенштейн не просто интересовался глубинным чувственным мышлением, но исследовал инстинктивные структуры чувственного восприятия. Он считал, что кинетика внутрикадрового материала воздействует и «растормаживает», «обнажает» психические процессы восприятия. «Кто не зубрил, бегая из угла в угол четьфехстенного загона с книжкой в руках? Кто не барабанил ритмически кулаком, запоминая «прибавочная стоимость есть...», то есть кто не помогал зрительному раздражению включением моторики в дело запоминания отвлеченных истин?», — восклицает Эйзенштейн в статье «Перспективы» (1929 г.) [Эйзенштейн, 1964-1971. Т.2. С.41]. Но раздражитель психомоторики чувственной реакции находится не только в кинетике внутрикадрового материала. Например, кадр «поглаживание портупеи», безусловно, воздействует на зрителя через знакомый кинетический опыт, — в минуты нервного напряжения нам свойственно теребить, поглаживать, сжимать что-либо. Но если бы кадр не повторился дважды, а фигурировал только один раз, зритель ограничился бы лишь восприятием информативного уровня (хотя и с определенным возможным акцентом — даже офицер начинает нервничать в возникшей напряженной ситуации). В момент возврата к этому кадру возникает реакция заражения. То же самое можно сказать и о кадрах «поглаживание кортика», «постукивание крестом». Зритель как бы вынужден повторить те же движения. Таким образом, реагируя на раздражитель, апеллирующий к зрительскому кинетическому опыту, зритель субъективизирует экранное движение, ощущает его. Но кроме раздражителя физиологической основы, обеспечивающего данное ощущение, работает монтажное членение и повторы изображений как раздражитель, обусловливающий рефлекторное реагирование. Именно дискретная, множественная репрезентация телесного движения в восприятии таких кадров как «сжимающие пояс руки молодой матери», «падение матери», «разбивание тарелки» и т.д. «переплавляет» зримое в ощущаемое.
То же касается и воздействия человеческого лица на экране. Поле раздражителей психофизиологической реакции также содержится в телесной репрезентации: в движении лица, его мимике. В «Броненосце «Потемкине» нет статичного, неподвижного, то есть не выражающего эмоцию лица, и на экране нет ни одного неопределенного и не опознаваемого выражения лица. Рассмотрим, к примеру, крупные планы молодого матроса, разглядывающего тарелку. Мы видим последовательные изменения выражения лица — сначала непроизвольное внимание и осмысление надписи на тарелке, затем по мере осмысления возбуждение, а далее насыщение этого возбуждения гневом. Такое монтажное членение на четко выделяемые мимические планы и стадиальное изменение провоцирует параллельное рефлекторное мускульное напряжение зрительского лица. Зритель втянут в движение эмоции, и он перерабатывает экранную эмоцию не только на уровне рационального опознания, но изначально на уровне ощущения поверхностью лица. «Мускульность» ощущения может даже отражаться в непосредственно-мимической безотчетной реакции. Естественно, такая стадиальность движения эмоции прослеживается не только на лице какого-то одного конкретного персонажа, но и на разных лицах, вкупе отражающих один эмоциональный процесс (например, лица траурного митинга).
Избыточность внешней «точки зрения» зрителя
В предыдущей главе мы отмечали, что психофизиологическое восприятие фильма «Броненосец «Потемкин» открывает лишь поверхностный уровень внешнего воздействия. Очевидно, эмоциональность внешнего восприятия «Ивана Грозного» являет другой уровень. Завораживающая, магнетизирующая сила воздействия этого фильма свидетельствует о том, что осязаемая действенность «Броненосца «Потемкина» не исчезла, однако, некоторые важные изменения произошли.
В «Неравнодушной природе» С.М.Эйзенштейн констатировал, что осязаемость контрапунктного построения является одной из типичных форм юности, а в «более зрелом возрасте происходит уже такое уплотненное срастание тканей и мотивов, что теряется их непосредственная осязаемость» [Эйзенштейн, 1964-1971. Т.З. С.290]. Подобно этому, исчезает осязаемость грубого узора домотканной ткани в гладкой поверхности современного полотна, где скрыт узор составляющих ее нитей. Эйзенштейн своеобразно сравнивает проблему особенности монтажной композиции «Грозного» с тем, что происходило с приходом театра Чехова, «разрушающего» театральность. Тонкая психологическая обрисовка персонажей в пьесах, разработка «музыкальной нюансировки настроения действия в пьесах Чехова создавала впечатление исчезновения театрального начала в том, что подавалось на сцене. Линии нюансов сплетались в такую слитую ткань, что за этим,, казалось, исчезла осязаемая действенность театра» [Эйзенштейн, 1964-1971. Т.З. С.334]. То же с внешним психофизиологическим воздействием в «Иване Грозном», которое словно исчезло вместе с этапом «скачущего монтажа». Но «исчезновение» обнаженной монтажной формы вовсе не обозначает уничтожение собственно внешнего воздействия, ушел этап формы, но не сам монтаж. Анализ немого монтажа с точки зрения действия «стыка» между кусками и звукозрительного монтажа с позиций исследования опоры внутри изображения провоцировал однозначные выводы о пропасти между внешним воздействием «Броненосца «Потемкина» и «Ивана Грозного». Но это иллюзорно. Возьмем, к примеру, монтажный кусок из сцены венчания Ивана на царство, где его ритуально осыпают золотыми монетами.
Монтажная разверстка являет следующее:
1. Общий план — Колычев и Курбский наклоняют чаши над Иваном, золотой дождь начался.
2. Средний план — золото осыпает Ивана.
3. Крупный план — подол, пол, брызги золота.
4. Крупный план — Колычев и чаша с золотом.
5. Крупный план — Курбский и чаша с золотом.
6. Крупный план — Иван под золотым каскадом.
7. Крупный план — улыбающаяся молодая женщина.
8. Крупный план — второй женский план.
9. Крупный план — Иван под золотым дождем.
10. Крупный план — царица Анастасия.
11. Крупный план — пол, подол, золотой водопад.
12. Общий план — фигуры Ивана, Колычева и Курбского; чаши пустеют.
Мы видим типичную для немого фильма «разбивку» одного краткого действия, которое посредством монтажа гиперболизировано — умножено, увеличено. Это особенно подчеркивается, когда в кадрах 4 и 5 зритель видит как пустеют чаши, но вслед за тем еще три крупных плана (6, 9, 11) демонстрируют «бесконечность» золотого потока. Как в «Броненосце «Потемкине» растягивалось время в сценах «Лестницы», так и здесь — повтор и детализация создают ощущение «мига как вечности». Но с монтажом зрительных кусков работает монтаж звуковой дорожки. Поток золота начинается в тот момент, когда бас протодьякона достигает наивысшей точки насыщения-напряжения и вступает хор. Пафос радостного хорового «Многая лета» вновь поддерживается и усиливается басом на кадрах 7-Ю, затем вступают хоровые переливы торжества и радости. Завершение «многолетия» совпадает с окончанием ритуала. Музыка и песнопение, безусловно, усиливают воздействие изображения льющегося золота, причем, помимо эмо-ционализации восприятия, действие музыкальной «дорожки» обладает определенным чувственным качеством. Мы вновь обращаемся к исследованиям Эйзенштейна чувственного восприятия. В «Вертикальном монтаже» он изучает проблему «соответствий» между музыкой и изображением, изначально опираясь на то, в чем может быть дейст вительно проявлена соизмеримость, — движение как «костяк», основа строения изобразительного и музыкального куска. Художник ищет глубинные основания чувственного восприятия «движения» музыки. Эйзенштейн пишет:
«Все мы говорим, что известная музыка «прозрачна», а другая «скачущая», что третья «строгого рисунка», что четвертая «расплывчатых очертаний».
Это происходит от того, что большинство из нас, слушая музыку, «видит» при этом перед собой некие пластические образы, смутные или явственные, предметные или абстрактные, но так или иначе какими-то своими чертами отвечающие, чем-то соответствующие по ощущению этой музыке.
Для последнего, более редкого случая, когда возникает не предметное или двигательное, но «абстрактное» представление, характерно чье-то воспоминание о Гуно: однажды в концерте он слушал Баха и вдруг задумчиво произнес: «Я нахожу что в этой музыке есть что-то октагональное (восьмиугольное)». (...) ...каждый из нас — более или менее точно и, конечно, с любыми индивидуальными оттенками — способен движением руки «изобразить» то движение, ощущение которого в нем вызывает тот или иной оттенок музыки» [Эйзенштейн, 1964-1971. Т.2. С.239-240].
Иначе говоря, в ощущении-восприятии музыки Эйзенштейн выделяет некое предметно-пластическое видение и двигательное ощущение. Приведем также пример исследования Эйзенштейном физиогномического восприятия слова в поздней работе «Режиссура. Искусство мизансцены»: