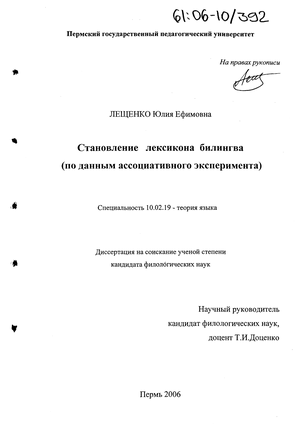Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теоретические проблемы исследования лексикона билингва 15
1.1. Гипотезы организации лексикона билингва 15
1.1.1. Представление билингвизма в современной лингвистике 15
1.1.2. Гипотеза сосуществования двух языков У. Вайнрайха 20
1.1.3. Концептуальные репрезентации двух языков 25
1.1.4. Лексические репрезентации двух языков 31
1.2. Методы исследования лексикона билингва 42
1.2.1. Ассоциативный эксперимент: методологические основы 42
1.2.2. Классификации ассоциативных реакций 45
ГЛАВА 2. Экспериментальное исследование лексикона билингва 62
2.1. Цель и задачи экспериментального исследования 62
2.2. Методика исследования 63
2.2.1. Методика отбора экспериментального материала 64
2.2.2. Характеристика высокочастотного слоя "учебного" лексического минимума 65
2.2.2.1 Объективная частота слова (Fo6) 68
2.2.2.2 Длина слова в слогах 70
2.2.2.3 Принадлежность слова к части речи 72
2.2.3. Методика проведения ассоциативного эксперимента 76
2.2.4. Предварительный анализ результатов ассоциативного эксперимента. 78
2.2.4.1. Распределение слов-стимулов по признаку наличия отказов 80
2.2.4.2. Зависимость успешности/неуспешности идентификации слова стимула от его характеристик 83
2.2.4.2.1. Объективная частота слова (Fo6) 84
2.2.4.2.2. Длина слова в слогах 86
2.2.4.2.3. Принадлежность слова к части речи 88
ГЛАВА 3. Ассоциативные связи в лексиконе билингва 94
3.1. Субординативные и координативные ассоциации 95
3.2. Непосредственные и опосредованные ассоциации 104
3.3. Характеристика субординативных и координативных связей по признаку "глубины" ассоциативного процесса 108
3.3.1. Формальные ассоциации 109
3.3.2 Лингвистические ассоциации 114
3.3.3. Экстралингвистические ассоциации 122
3.4. Межъязыковые и внутриязыковые группировки ассоциативных полей 125
3.5. Ассоциативный эксперимент с носителями английского языка 127
Выводы 131
Заключение 134
Список литературы 139
Приложение 164
- Представление билингвизма в современной лингвистике
- Концептуальные репрезентации двух языков
- Субординативные и координативные ассоциации
- Лингвистические ассоциации
Введение к работе
Современная языковая ситуация характеризуется активным развитием межъязыковых контактов в разнообразных сферах деятельности. Постоянное расширение международных связей, а также активное внедрение Интернета как средства массовой коммуникации обусловливает все большую доступность разнообразной информации на иностранных языках с одной стороны и, следовательно, все возрастающую потребность в умении пользоваться иностранным языком в коммуникативных целях - с другой. Необходимость владения иностранным языком для специалиста в любой области знаний представляется на сегодняшний день совершенно неоспоримой; в то же время практика преподавания иностранного языка на неязыковых факультетах ВУЗов показывает, что традиционные методы и приемы обучения зачастую оказываются малоэффективными, а уровень сформированности у выпускников коммуникативных умений - явно недостаточным.
Одной из основных причин низкой результативности обучения является тот факт, что на сегодняшний день лингвистически обоснованной теории усвоения иностранного языка просто не существует (Левицкий 2003). Об этом неоднократно упоминал в своих работах Л.В. Щерба, указывая на то, что "большинство существующих методик имеет еще довольно мало научный характер, так как основаны по большей части на грубой эмпирии", более того, "в методике преподавания иностранных языков речь идет вовсе не о научном знании этих языков и еще менее о самой науке о языке, а о приобщении к некоторому социальному явлению, совершенно независимо от знания законов этого явления" (Щерба 1974а: 9-10). На первый план, таким образом, выдвигается задача разработки теоретической лингвистической базы, способной объяснить общие процессы и механизмы овладения иностранным языком; лишь на этой основе возможно эффективное переустройство системы языкового образования.
Данное диссертационное исследование выполнено в русле теории усвоения иностранного языка, разрабатываемой на Западе в рамках самостоятельного междисциплинарного направления (Second Language Acquisition), а также в отечественной психолингвистике в рамках Тверской психолингвистической школы под руководством А.А. Залевской (подробно см. в: Залевская 1996; Залевская, Медведева 2002 и др.). Принципиальной особенностью этого направления является характерное для современной лингвистики движение к "языковой личности" (Караулов 1987), проявляющееся в рассмотрении языка, прежде всего, в качестве достояния индивида и рассматривающее процессы усвоения языковых знаний, умений и навыков как формирование "индивидуального знания" (Залевская 2002). Важнейшим аспектом этого направления является изучение процессов организации и функционирования внутреннего лексикона индивида.
В современной лингвистике и психолингвистике существует несколько подходов к толкованию феномена внутреннего лексикона. Как отмечает Л.И. Медведева, "организация лексикона столь сложна, что исследователи, подходящие к его изучению с разных точек зрения, всегда могут отыскать в нем что-то, соответствующее их ожиданиям" (Медведева 1999: 5).
Несмотря на определенные расхождения в понимании внутреннего лексикона в различных исследованиях, общим для всех из них является признание системной организации лексикона в виде единого функционального целого (подробно см. в: Залевская 1990). В строении данной системы выделяются два наиболее глобальных принципа: ассоциативный, позволяющий рассматривать лексикон человека как ассоциативно-вербальную сеть (см.: Старинец и др. 1968а, 19686; Kiss 1968; Караулов 1999) и вероятностный, представляющий лексикон человека как вероятностную иерархию составляющих его единиц (Фрумкина 1967).
Традиционно в методике преподавания иностранных языков усвоение лексики понимается как овладение обучающимися некоторым словарем, представляющим собой определенный набор иноязычных лексических единиц (учебный лексический минимум), необходимый для формирования
лексического навыка и являющийся, наряду с другими навыками, одним из составляющих элементов коммуникативной компетенции (подробно см. в: Пассов 1977, Рогова 1983). В связи с этим обсуждается различная результативность тех или иных методов семантизации и закрепления иноязычного слова в учебной ситуации.
Тем не менее, результаты современных психолингвистических исследований указывают на необходимость отказа от подобной "узкой" трактовки лексикона лишь как индивидуального словарного запаса, хранящегося в сознании обучающегося в виде простого списка слов. Тезис об обучении иностранному языку с точки зрения формирования "живого" знания (Медведева 1999) подразумевает рассмотрение внутреннего лексикона в качестве сложной иерархической системы многократно пересекающихся ассоциативных полей, с помощью которых упорядочивается и хранится информация о предметах и явлениях окружающего мира и об обозначающих их вербальных единицах (подробно см. в: Залевская 1990).
Согласно концепции, разработанной в рамках Тверской психолингвистической школы, внутренний лексикон понимается как лексический компонент "психофизиологической речевой организации" (Щерба 1974), представляющий собой- индивидуальное проявление лексической системы языка. Внутренний лексикон формируется в результате речевой деятельности конкретного индивида и, в то же время, обусловливает функционирование всех речевых процессов. Основные положения данной концепции сводятся к следующим: • "внутренний лексикон представляет собой не просто пассивное хранилище знаний о языке, а функциональную динамическую систему, постоянно самоорганизующуюся в результате взаимодействия между процессом переработки и упорядочивания речевого опыта и его продуктом; • в основе организации лексикона лежат два основных принципа: Щ логика упорядочения человеком знаний о мире и логика хранения знаний об особенностях оперирования словом в речи; • внутренний лексикон имеет многоуровневую организацию, дающую возможность параллельного хранения его единиц и одновременного учета индивидом всего многообразия увязываемой со словом информации; • основная функция лексикона - служить средством доступа к информации, хранящейся в памяти человека" (op.cit: Залевская 1990).
Отечественные исследования внутреннего лексикона индивида
развиваются в следующих основных направлениях:
1. Изучение особенностей организации и функционирования слова в индивидуальном сознании взрослого носителя русского языка. Так, выполняются экспериментальные исследования по моделированию ассоциативно-вербальной сети (Старинец, Агабабян, Недялкова 1968; Караулов 1991, 1995; Мартинович 2000; Мартыненко, Мартинович 2001; Агибалов 1995, 2003), изучаются типы ассоциативных связей слов (Глазанова 1999, 2001; Кулакова 2000, 2004) и закономерности поиска слов в ментальном лексиконе (Русакова 1999); рассматриваются стратегии идентификации знакомых и незнакомых индивиду слов (Лачина 1985, 1989; Сазонова 1999, 2000; Тогоева 2000), выявляется специфика формирования ассоциативных связей многозначных и омонимичных слов (Ахутина, Горохова 1983), и т.д.
Изучение особенностей становления внутреннего лексикона русскоязычного ребенка. В рамках данного направления рассматриваются процессы переструктурирования ассоциативных связей слов в ходе взросления (Уфимцева 1981, 1983; Агибалов, Николаенко 2003; Доценко 2000, 2001, 2003), осуществляется моделирование внутреннего лексикона ребенка дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста (Гасица, Дергачев 1986; Вереснева, Дубровская, Овчинникова 1995; Овчинникова, Вереснева, Дубровская, Пенягина 2000; Доценко 2000; Березин 2003).
Изучение универсальных принципов структурирования внутреннего лексикона. Исследования, проводящиеся в этой области, ориентированы на изучение характера единиц, составляющих ядро и периферию внутреннего лексикона индивида (Залевская 1989), выявление принципов строения ядра лексикона (Золотова 1981, 1983), сопоставление ядра лексикона носителей разных языков (Золотова 1985) и т.д.
Изучение особенностей становления и функционирования внутреннего иноязычного лексикона в учебной ситуации. Отметим, что, несмотря на происходящий в настоящее время поворот к признанию центральной роли слова в процессе усвоения иностранного языка (Медведева 1999), данная проблема является, пожалуй, наименее разработанной. Основы психолингвистической теории усвоения иностранного языка сформулированы в работах А.А.Залевской (подробно см. в: Залевская 1996). Проблемы функционирования иноязычного слова рассматриваются в обобщающем исследовании И.Л. Медведевой (1999): обсуждаются вопросы объема внутреннего иноязычного лексикона на различных этапах обучения, особенности хранения формы и значения в лексиконе, внутриязыковые трудности усвоения иноязычного слова и др. В методике преподавания иностранного языка усвоение традиционно определяется как "сложная познавательная деятельность, включающая два взаимосвязанных процесса: интериоризацию (постепенное преобразование внешних действий во внутренние) и экстериоризацию (практическую реализацию внутреннего, прежде интериоризированного действия)" (Зимняя 1991:94). Таким образом, данный процесс подразумевает ознакомление с содержательной стороной лексических единиц, их синтаксическими и деривационными особенностями; формирование представления о частоте их встречаемости в речи и на письме; становление сети ассоциаций, связующих данное слово с другими и т.д. с одной стороны и умение эффективно использовать эти знания в коммуникативных целях, с другой. Показателем освоенности слова считается его легкая узнаваемость при чтении и аудировании, а также способность его адекватного употребления при говорении и письме (Ellis et. al. 1994).
Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной науке проводится большое количество исследований, посвященных особенностям усвоения иностранного языка людьми различного возраста и в различных условиях (Имедадзе 1979, 1986; Леонтьев 1986, 1999; Фрумкина 1990, 2001; Ван 1993; Кленская 2002; Наумова 2002; Попкова 2002; Белянин 2003; Иванова 2005; Grosjean 1982; Potter 1984; Fantini 1985; Paradis 1985; Green 1986; Bot 1992; Cook 1992; Atchison 1994; Bialystok & Hakuta 1994; Groot & Hocks 1995; Lawson & Hogben 1996; Elliot & Adepoju 1997), до сих пор не выработано общей точки зрения на то, каким образом происходит усвоение иноязычного слова, то есть как именно лексическая единица, принадлежащая иной языковой системе, входит в лексико-семантическую систему индивида; какие связи формируются между единицами родного и иностранного языков; каким образом иноязычные слова увязываются с существующей концептуальной системой; какое влияние оказывает использование слова родного языка в процессе семантизации и закрепления иноязычных слов и т.д. Основная особенность феномена внутреннего лексикона недоступность прямому наблюдению - выдвигает на первый план задачу его представления в виде некоторой модели, сохраняющей основные свойства данного объекта (например, состав и структуру) и способной в свою очередь быть объектом дальнейшего изучения (Агибалов 1995). Моделирование процесса усвоения лексики иностранного языка в учебной ситуации ф определяют актуальность данного исследования.
Объектом исследования является лексикон билингва, формирующийся в условиях начального изучения английского языка на неязыковом факультете высшего учебного заведения.
Предметом исследования является ассоциативная структура фрагмента высокочастотного слоя "учебного" лексикона.
Цель исследования заключается в изучении процесса вхождения иноязычного слова в систему внутреннего лексикона взрослого обучающегося на начальном этапе обучения.
Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих задач:
• выявить типы ассоциативных связей английских слов, входящих в состав высокочастотного слоя "учебного" лексикона;
• проследить динамику ассоциативной структуры английского слова на начальном этапе обучения;
• охарактеризовать роль родного языка в процессе становления иноязычного лексикона взрослого;
• сопоставить типы ассоциативных связей английских слов, наблюдаемых в лексиконе русскоязычных студентов, изучающих английский язык, и носителей данного языка.
Поставленные цель и задачи определили методы исследования: экспериментальный и сопоставительный. Экспериментальный метод представлен методикой, направленной на выявление вероятностно организованного "учебного" лексического минимума и методикой свободного ассоциативного эксперимента. Сопоставительный метод реализуется в процедуре сопоставления ассоциативных полей английских слов.
Материалом исследования послужили: 1) экспериментальные данные, полученные от преподавателей английского языка, участвовавших в эксперименте по выявлению вероятностно организованного "учебного" лексического минимума (примерно 1500 лексических единиц); 2) экспериментальные данные, полученные от русскоязычных и англоязычных студентов, участвовавших в серии свободных ассоциативных экспериментов (примерно 1500 реакций). Научная новизна работы заключается:
- в поэтапном проведении свободного ассоциативного эксперимента с одной и той же группой испытуемых в течение всего периода обучения (2 года). Такая методика дала возможность проследить за динамическими изменениями ассоциативной структуры иноязычных слов;
- в анализе ответов-отказов от реакций для выявления факторов, определяющих успешность/неуспешность идентификации английского слова на письме;
в выявлении вероятностно организованного словаря "учебного" лексического минимума.
На защиту выносятся следующие положения: 1. Высокочастотный слой "учебного" иноязычного лексикона включает в себя две группы лексических единиц, обслуживающих сферы обще бытовой разговорной и профессионально ориентированной коммуникации. Данные группы достаточно четко противопоставлены друг другу по факторам "длина слова в слогах", "объективная частотность слова" и "часть речи слова": для первой из них характерны г преимущественно односложные слова, имеющие высокий показатель "Fo6" и являющиеся существительными (что соответствует составу ядра лексикона носителя английского языка); вторую группу составляют единицы, характеризующиеся большей структурной сложностью именее высоким показателем "Fo6". Большая часть этих слов представлена глаголами.
2. Становление ассоциативных связей английского слова в учебной ситуации может осуществляться по двум моделям: субординативной (межъязыковой) и координативной (внутриязыковой). В условиях обучения на неязыковом факультете вуза иноязычный лексикон студента формируется преимущественно по субординативной модели; ведущим типом субординативной связи иноязычного слова является его перевод на родной язык. Частота оперирования словом по координативной модели возрастает с увеличением времени обучения. Становление координативных связей иноязычного слова зависит от факторов "высокий показатель Fo6" и "принадлежность к группе общеупотребительной лексики".
3. Внутриязыковая часть ассоциативного поля англоязычного слова формируется поэтапно и претерпевает не только количественные изменения (увеличение числа внутриязыковых ассоциатов), но и качественные (изменение типа ассоциативной связи). На начальном этапе обучения наиболее часто актуализируются формальные связи стимула (66%), с увеличением длительности обучения преобладающим типом ассоциативной связи становится семантический (парадигматический) тип (82%).
4. Наиболее прочными среди всех координативных связей являются антонимичные связи: противопоставление представляет собой один из ведущих способов осознания значения иноязычного слова по координативной модели. 5. Реакции - отказы от ответа, выявленные в результатах ассоциативного эксперимента, сами по себе являются достаточно информативными. Анализ реакций-отказов позволяет выявить факторы, оказывающие влияние на успешность идентификации стимула: "структурная простота слова", "высокий показатель Fo6", "принадлежность к классу существительных".
6. Выявлена тенденция группировки различных иноязычных слов в межъязыковые и внутриязыковые подгруппы, объединенные каким-либо общим признаком: 1) метаязыковым (отнесение стимула к абстрактной грамматической категории); 2) лексико-грамматическим . (отнесение стимула к классу личных и вопросительных местоимений); 3) лексико-семантическим (отнесение стимула к глаголам говорения или движения, терминам родства, прилагательным с положительной эмоциональной оценкой). Объединение в такие подгруппы в большей степени характерно для "коротких" (одно- и двусложных) слов, имеющих высокий показатель Fo6. Теоретическая значимость: проведенное исследование позволяет уточнить имеющиеся данные о специфике вхождения иноязычного слова в систему внутреннего лексикона взрослого: представить процесс формирования ассоциативной структуры иноязычного слова в динамике; сформулировать тезис о ведущем значении противопоставления как универсального способа осмысления слова по координативной модели; выявить закономерности группирования слов изучаемого языка в лексиконе. Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы в разработке теории усвоения иностранного языка, при чтении курсов по психолингвистике и методике обучения иностранному языку, для разработки учебных пособий по английскому языку, а также компьютерных обучающих программ для дистанционного обучения.
Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались в качестве докладов и сообщений на межвузовской научно-практической конференции "Иностранные языки в объединяющемся мире: описание, преподавание, овладение" (Курск, март 2001г.); на межвузовской научной конференции "Лингвистические/психолингвистические проблемы усвоения второго языка" (Пермь, ноябрь 2002г.); на Международной научной конференции "Язык. Система. Личность" (Екатеринбург, апрель 2004г.); на заседаниях межвузовской школы социо-психолингвистики (Пермь, 2001, 2004, 2005); на заседаниях кафедры общего языкознания и кафедры иностранных языков Пермского государственного педагогического университета. По теме диссертации имеется 5 публикаций.
Структура работы: диссертация состоит из Введения, трех глав, заключения, библиографического списка (288 наименований, из них 47 на английском языке) и приложения. Приложение включает вероятностно организованный словарь "учебного" лексического минимума (примерно 1500 единиц), списки стимулов свободных ассоциативных экспериментов и материалы свободных ассоциативных экспериментов с русскоязычными и англоязычными студентами.
Представление билингвизма в современной лингвистике
Рассмотрим понятие билингвизма в современной лингвистике. Билингвом обычно называется человек, являющийся носителем двух Ы языковых систем и способный эффективно пользоваться ими в коммуникативных целях (Щерба 1957). Под билингвизмом, следовательно, понимается владение двумя и более языками, а также способность переключаться с одного языка на другой в зависимости от условий общения и в степени, достаточной для успешного общения (Вайнрайх 1953). Традиционно принято различать естественный билингвизм (ситуацию, в которой освоение иностранного языка происходит в условиях естественного иноязычного окружения, преимущественно в раннем возрасте) и искусственный билингвизм (целенаправленное освоение иностранного языка в учебных условиях). ж Еще У. Вайнрайх упоминал о том, что дать исчерпывающее определение феномена билингвизма достаточно сложно, поскольку одна из наиболее значительных черт двуязычия (многоязычия) - степень владения каждым данным языком - не только не является единой у разных двуязычных индивидов, но даже не может считаться стабильной характеристикой у одного и того же говорящего на различных стадиях усвоения иностранного языка. Мнения разных авторов по вопросу о том, на каком этапе владения иностранным языком индивид может считаться билингвом значительно различаются. Существуют крайние точки зрения, одна из которых постулирует, что билингвом может считаться только человек, одинаково совершенно владеющий двумя языками (идеальный уровень владения -Bloomfield 1933; цит. по: Пойменова 1999); согласно другой, любой индивид, имеющий хоть какое-то знание (пусть даже только рецептивное) по крайней jy мере в одном из речевых умений (даже если только в чтении) во втором языке, является билингвом (McNamara 1967; цит. по: там же). Однако большинство исследователей двуязычия (Имедадзе 1979, Белл 1980, Grosjean 1984, Baker 1988) придерживаются компромиссного мнения о билингвизме как о гибкой характеристике, варьирующейся от самой малой степени владения иностранным языком до совершенного владения несколькими языками. Особенность билингвизма заключается в невозможности однозначно констатировать его наличие/ отсутствие у конкретного индивида; речь может идти лишь о сформированности того или иного типа двуязычия, либо о той или иной степени владения иностранным языком. Основным показателем сформированности билингвальных умений считается способность к использованию иноязычной языковой системы в целях общения (коммуникации) при направленности сознания на предмет речевой деятельности, а не на средства и способы его формирования и формулирования (Имедадзе 1979). По определению А.А. Леонтьева, быть билингвом - это значит "уметь осуществлять речевую деятельность (точнее отдельные виды речевой деятельности или их комплекс), пользуясь в зависимости от ближайшей социальной среды, цели общения, информированности о собеседнике и тому подобными языковыми средствами не одного, а двух ... языков, имея более или менее свободный выбор языка для общения" (Леонтьев 1986: 25). Таким образом, определяющим фактором сформированности билингвальных умений является не просто степень владения иностранным языком (которую зачастую бывает достаточно сложно определить), а результативность его использования; при таком понимании "даже примитивный акт вербальной иноязычной коммуникации, закончившийся взаимным пониманием партнеров, является актом билингвального поведения, и человек, совершивший его, действует в этом случае как билингв" 4 (Каспарова 1986: 5). Поскольку, в зависимости от различных условий, успешная коммуникация может осуществляться и человеком с относительно низким уровнем владения иностранным языком, на сегодняшний день вопрос о том, кто является/ не является билингвом потерял свою актуальность. Большинство MJ авторов предпочитают говорить о той или иной степени сформированности билингвальных навыков, выделяя различные этапы (ступени) их формирования. Так, в зависимости от способов осуществления речевой деятельности, И.А. Зимняя выделяет три ступени билингвизма: нижнюю, на которой Ф формирование и формулирование мысли происходит посредством родного языка с последующим переводом на неродной язык; промежуточную, характеризующуюся формированием мысли средствами родного языка с последующим ее формулированием средствами неродного языка; и так называемую "ступень билингвального существования", находясь на которой 1 индивид формирует и формулирует свои мысли сразу же посредством иностранного языка (Зимняя 1985). Отметим, однако, что подобное резкое отграничение одного этапа от другого не всегда отвечает ситуации реального обучения (общения), в ходе которого индивид зачастую совмещает различные стратегии пользования иностранным языком. Так, даже на начальном этапе, возможно произведение элементарных иноязычных высказываний без обращения к родному языку (речевые штампы, клише, прочно усвоенные и часто встречающиеся сочетания слов); в то же время, как показывает практика, даже при высоком уровне владения иностранным языком обучающийся зачастую обращается к родному языку для формулирования своей мысли в определенных условиях. Другая типология основана на периодизации процесса формирования двуязычия в зависимости от степени сформированности различных речевых умений и активности их использования. Так, выделяются следующие щ периоды: 1. Начальный период, характеризующийся однонаправленной речью, отсутствием понимания речи носителя языка, пассивным речевым поведением, неумением читать и писать. 2. Период ориентации, во время которого складывается двунаправленная речь, возникает частичное понимание речи носителя языка, используется активное речевое поведение, формируется частичное умение читать и писать. 3. Период владения, для которого характерна двунаправленная речь, полное понимание речи носителя языка, активное речевое поведение, полное умение читать и писать (Ван 1993: 7).
Концептуальные репрезентации двух языков
Такое строение концептуальной системы свойственно для смешанного и субординативного билингвизма (см. рис. 1, 3) и подразумевает, что "элементы действительности кодируются только один раз в жизни при первом восприятии, и имеется некое общее хранилище следов восприятий, из которого "черпает" каждый из языков" (Колере 1972: 254). Билингвизм, характеризующийся единой системой концептов, объясняет возможность межъязыкового перевода, поскольку связывает одни и те же понятия, выраженные на разных языках, в единое целое (Grosjean 1982, Bialystok & Hakuta 1994, de Groot & Comijs 1995, Завьялова 2001).
Так, в случае смешанного билингвизма, при котором непосредственные связи между лексическими единицами разных языков отсутствуют (см. рис. 1), перевод осуществляется опосредованно, путем доступа к соответствующему концепту, общему для обоих членов переводной пары. При субординативном двуязычии, характеризующемся наличием прямых связей между двумя лексическими системами (см. рис. 3), перевод может осуществляться сугубо на лексическом уровне, не затрагивая глубинный уровень концептов. Такой тип возникает в результате обучения иностранному языку преимущественно переводным методом (de Groot & Comijs 1995).
Однако положение о совместном хранении концептов не в состоянии объяснить некоторые феномены, возникающие в ходе пользования индивидом родным и иностранным языком. Так, если считать, что концептуальная система человека формируется в раннем детстве при освоении им родного языка, а впоследствии увязывается с еще одной языковой системой, логично было бы предположить, что лексические единицы обоих языков, относящиеся к одному и тому же концепту, будут полностью эквивалентны. Другими словами, "для того, чтобы образовать единую систему ассоциаций оба языка, сосуществующие в индивиде, должны иметь все семантические элементы общими, т.е. они обязаны придать единообразие своему пониманию мира и сделать все свои понятия более или менее тождественными не только в отношении их содержания, но также - и, может быть, даже главным образом, в отношении их объема" (Щерба 1974: 68).
Тем не менее, большинство исследователей межъязыкового перевода отмечают, что полная эквивалентность (случаи максимально возможного совпадения лексических единиц разных языков во всем объеме их референциального значения) очень редки, а перевести единицу одного языка на другой абсолютно точно практически невозможно (Рецкер 1974, Бархударов 1975, Швейцер 1988, Комиссаров 1990, Миньяр-Белоручев 1996). Как отмечается в работе (Швейцер 1988), "полная эквивалентность, охватывающая как семантический, так и прагматический уровень, а также все релевантные виды функциональной эквивалентности, является идеализированным конструктом" (1988: 95).
Гипотеза совместного хранения концептов не способна дать ответ на вопрос о том, почему в большинстве случаев лексические единицы разных языков связаны между собой отношениями частичной эквивалентности, при которой одному слову в иностранном языке соответствует не один, а несколько эквивалентов в языке перевода, то есть почему система значений одного и того же слова не совпадает в разных языках. Подобные несоответствия привели к возникновению компромиссной гипотезы об особенностях хранения концептов в сознании двуязычного индивида, получившей название дистрибутивной.
Дистрибутивная гипотеза организации концептуальной системы (distributed storage) Согласно данной гипотезе, в процессе изучения иностранного языка у индивида формируется единая расширенная концептуальная система, имеющая сложное строение: часть концептов, специфичных для данного конкретного языка, хранится раздельно, однако большая часть является общей. Лексические единицы зачастую не имеют однозначных соответствий (связей) с единицами концептуальной системы (см. рис. 4): последние представлены распределительным (дистрибутивным) способом в более чем одном узле памяти (Taylor & Taylor 1990, de Groot 1992, de Groot & Comijs 1995).
Дистрибутивная репрезентация концептов в сознании билингва хорошо объясняет тот факт, что слово родного языка и его ближайший эквивалент в иностранном языке редко имеют полное соответствие. Это происходит из-за неполного пересечения узлов концептуальной системы, увязанных с данными словами: часть из них будут общими для обеих лексем (что приведет к частичному совпадению их значений), другая часть является увязанной только с одним из слов в переводной паре, в результате чего возникает частичное несовпадение в объеме значений таких слов. Так, на рис. 4 значение слова родного языка и значение его переводного эквивалента представлены в четырех концептуальных узлах, но только три из них являются общими (пересекающимися) для переводимых слов. Именно пересекающиеся репрезентации концептуальной системы обеспечивают возможность перевода слова с родного языка на иностранный и наоборот; раздельные же (специфичные для каждого из языков) репрезентации соотносятся с той частью значения слова, которая не входит в состав значения его переводного эквивалента (de Groot & Comijs 1995).
Субординативные и координативные ассоциации
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что повышение уровня владения языком в целом влечет за собой рост координативных связей иноязычного слова. Несмотря на явное преобладание на занятии переводных методов работы со словом, степень выраженности "блокирующего эффекта" постепенно ослабляется, однако на отдельно взятом этапе формирование координативных связей зависит от качественных характеристик слова (его "простоты7"сложности" для обучающегося).
Несмотря на то, что количество координативных связей незначительно, их анализ позволяет выявить определенные закономерности, характерные для процесса становления внутриязыковых связей иноязычной лексической единицы на различных этапах изучения иностранного языка.
Так, на этапе первичного освоения лексического минимума (эксперимент 2.1) большинство внутриязыковых реакций основано на актуализации формальных (звукобуквенных) связей стимула, например: proud — round, how — new, soon — son, work — word. Часть реакций представляет собой воспроизведение фоновых культурологических знаний, эксплицируемых в так называемых "прецедентных текстах" (термин введен Ю.Н. Карауловым). Например: happy — English (название учебника), girl — Space (название музыкальной группы), because — I love you (название песни). Другая часть реакций возникает на основе собственно лингвистического опыта в изучаемом языке: it — is, have — to have.
На этапе последующего расширения лексического минимума (эксперимент 2.2) стратегия внутриязыкового ассоциирования на формальных основаниях остается ведущей, например: book — look, think — pink, explain — lane, answer — were, exercise — explorer, place — face; присутствуют также культурологические реакции, например: family — Mazda 324 (марка автомобиля), yesterday — Beatles (название музыкальной группы). В то же время, увеличивается доля синтагматических ассоциаций, представляющих собой речевые клише английского языка, например: do — you know, либо общеупотребительные сочетания, например: large — family, day — every; появляются примеры тематических (экстралингвистических) координативных реакций, например: city - smog, read - library, copybook - Xerox.
К концу второго года обучения (4 семестр, эксперименты 2.4 и 2.5.) количество формальных внутриязыковых реакций значительно сокращается.
Ведущей стратегией внутриязыкового ассоциирования является продуцирование лингвистических реакций, которые становятся гораздо более разнообразными. Так, в материалах экспериментов 2.4. и 2.5. представлены парадигматические ассоциации, основанные на актуализации антонимических связей стимула (young — old, open — close; morning — evening), а также категориальных, основанных на противопоставлении членов одной категории друг другу (son — father, father — mother, sister — brother, girl — boy, school —university, student — pupil). Другие типы парадигматических реакций представлены синонимическими связями (make — do, speak — talk, computer — P.C., get up — stand up; tell — speak) и гиперонимическими (manager — post, sport — hobby).
Среди пар синтагматического типа выявлены ассоциативные пары, воспроизводящие устойчивые сочетания английского языка {how — about, long, many; come — back; soon — as soon as), а также сочетания, производящиеся по схемам: "действие - объект действия" {read — book, translate — word, like — smth, open — door) и "признак предмета - предмет" {happy — child). Число тематических реакций остается незначительным {see — eye, write — pen, speak — friend, street — house, dictation — lesson). Культурологические реакции в материалах двух последних экспериментов полностью отсутствуют.
Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что внутриязыковое ассоциативное поле иноязычной лексической единицы формируется поэтапно; при этом повышение уровня владения изучаемым языком влечет за собой не только количественные изменения (увеличение числа внутриязыковых реакций), но и качественные (изменения в ассоциативной структуре слова)19. Так, на фоне низкого уровня владения иностранным языком, центральное место во внутриязыковом ассоциативном поле стимула занимают формальные реакции; культурологические ("прецедентные") реакции и реакции лингвистического типа представлены на периферии. Увеличение длительности обучения влечет за собой переструктурирование ассоциативного поля слова, в результате чего ведущее место в нем начинают занимать реакции, продуцируемые на основе лингвистических связей стимула; к периферийным относятся экстралингвистические и формальные реакции; культурологические (по материалам нашего эксперимента) полностью вытесняются.
В зависимости от наличия в ассоциативной паре третьего, формально не выраженного, элемента, опосредующего переход от стимула к реакции, различают непосредственные и опосредованные ассоциации (см. Главу 1). Сам по себе процесс опосредования стимула в ходе его идентификации неким промежуточным компонентом заинтересовал нас потому, что за опосредующим элементом могут скрываться как субординативные, так и координативные связи. Так, показателем субординативной связи может быть: а) экспонент (звукобуквенная оболочка) стимула, выраженный средствами одного языка и б) перевод стимула. Показателем координативнои связи может быть английское слово, схожее по написанию/звучанию со словом-стимулом (при этом слово-реакция выражается средствами родного языка). Количественный анализ показал, что среди всех опосредованных ассоциаций ведущее место занимают реакции, основанные на опосредовании субординативного типа (см. рис. 20).
Лингвистические ассоциации
Обратим внимание на то, что в большинстве исследований, основанных на применении ассоциативного эксперимента, авторы традиционно уделяют особое внимание принадлежности слова-реакции к парадигматическому/ синтагматическому типу. Большой популярностью пользуются работы, основанные на выявлении так называемых "ассоциативных норм", характерных для носителей различных языков.
Так, исследования зарубежных авторов (Brown & Berko 1960, Deese 1965, Ervinripp 1973, Miller & Johnson-Laird 1976, Aitchison 1994) показали, что у взрослых носителей английского языка в результатах ассоциативных тестов преобладают парадигматические реакции, тогда как дети до определенного возраста (6-8 лет) предпочитают актуализировать синтагматические связи стимула. Подобное предпочтение объясняется тем, что дети, по сравнению со взрослыми, обладают значительно меньшим словарным запасом, что проявляется в наличии меньшего количества контекстов для каждого слова и, следовательно, ведет к уменьшению количества конкурирующих ассоциатов (Ervinripp 1973). Переорганизация лексико-семантической системы ребенка известна в литературе как "синтагматико-парадигматический сдвиг" (Miller & Johnson-Laird 1976); исследователи объясняют данное явление тем, что ребенок начинает осваивать синтаксис, и синтаксическая схожесть слов становится все более актуальной в процессе ассоциирования. Парадигматические отношения в лексических сетях становятся более выразительными и легко доступными, так как происходит увеличение длины и вариативности предложений; вербальные контексты слова становятся более разнообразными, а наращивание вокабуляра ведет к большей контекстуальной схожести реакций. Все это приводит к значительному увеличению количества парадигматических реакций (там же).
Ассоциативные эксперименты, проведенные с носителями русского языка, выявили обратную тенденцию: в процессе взросления происходит увеличение синтагматических реакций, по сравнению с парадигматическими. Так, по результатам экспериментов Н.А. Гасицы и С.Н. Дергачева, у детей дошкольного и младшего школьного возраста (4-8 лет) подавляющее число ассоциативных реакций являются парадигматическими — это первая, вторая и третья по частотности реакции (Гасица, Дергачев 1986); преобладание парадигматических реакций над синтагматическими у детей 6-7 лет отмечается и в работе И.Г. Овчинниковой (Овчинникова 2003). Согласно предположению Н.В. Уфимцевой (1977, 1983), для русскоязычных детей в возрасте 8 — 9 лет наиболее значимыми являются связи внутри словоизменительной парадигмы, связанные с процессом "активного осознания морфологической структуры слова". Впоследствии более актуальными становятся связи, основанные на контекстном окружении слова (что ведет к постепенному увеличению в ходе взросления числа синтагматических реакций; Уфимцева 1977:165).
Результаты данного исследования указывают на значительное преимущество парадигматических связей над синтагматическими в процессе идентификации иноязычного слова (68% и 32% соответственно; см. рис 33). При этом выявлена обратная зависимость между частотой обращения к парадигматическим и синтагматическим связям на различных этапах эксперимента; смена языкового кода слова-реакции не влияет на изменение этой зависимости (ср. рис. 30, 31).