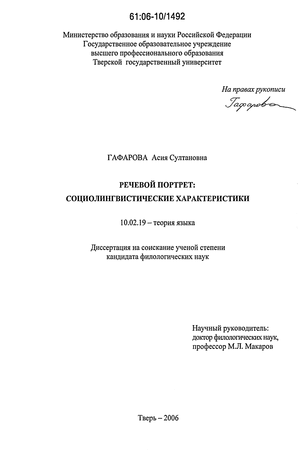Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Художественный текст vs. художественный дискурс
1.1. Дискурс vs. художественный дискурс 12
1.2. Художественный текст 20
Глава 2. Феномен речевого портрета
2.1. Речевой портрет как двуединство социолектическои и идиолектической характеристики персонажа 29
2.2. Феномен речевого портрета в аспекте оппозиции oratio naturalis - oratio fictionalis 36
Глава 3. Речь военнослужащего срочной службы
3.1. Лингвистические характеристики речи военнослужащих срочной службы 54
3.2. Экспрессивность речевого поведения солдат 86
3.2.1 Понятие экспрессивности 86
3.2.2. Стилистические приемы, придающие речи солдат экспрессивность 95
Заключение 116
Библиография 122
- Дискурс vs. художественный дискурс
- Художественный текст
- Речевой портрет как двуединство социолектическои и идиолектической характеристики персонажа
- Лингвистические характеристики речи военнослужащих срочной службы
Введение к работе
Сегодня человеческую мысль как никогда ранее волнуют проблемы национальных, культурных, социальных и тендерных различий. На повестке дня все чаще появляются вопросы расовых, этнических, межкультурных отношений и, как результат, сопряженные с ними проблемы национальной и культурной идентичности, социальной агрессии, межнациональных конфликтов и нетерпимости. То, как ведет себя индивид, во многом обусловлено культурой (социальные нормы и ритуалы), в которой он воспитан. Поэтому все, что противоречит или отличается от норм, ценностей и представлений индивида, может восприниматься им как непонятное, чуждое и, соответственно, враждебное.
Свой вклад в решение данных проблем может сделать и лингвистика через исследование речевых портретов членов того или иного социума. Сообщества людей, объединенных в рамках различных общественных формаций, на всех периодах развития не были социально, культурно, экономически однородными, что естественно находит свое отражение в специфике употребления языковых выразительных средств, где отражены менталитет, мировосприятие и мировоззрение индивида, его место в социальной иерархии, образовательный уровень и т.д. С одной стороны, речевой портрет каждой личности индивидуален и отражает уникальный, неповторимый для каждого человека жизненный опыт. С другой стороны, язык выступает коллективным хранителем информации о мире, социуме и его институциональных проявлениях. С этих позиций язык является неким «зеркалом» жизнедеятельности членов того или иного социума.
Перед лингвистикой на сегодняшний день стоит важная задача детального исследования всех видов дискурса в конкретном языковом сообществе, задача, в которой есть еще много лакун. Изучение особенностей речевого поведения того или иного социума может способствовать лучшему пониманию мира и
окружающих нас людей, снятию страха, агрессии и неприязни по отношению к чужим этническим, религиозным и социальным группам.
Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу особенностей речевого поведения одной из важнейших социальных групп любого общества XX-XI вв. - военнослужащих срочной службы (солдат).
Любое общество XX века характеризуется наличием подсистем, отличающихся большим своеобразием и обладающих рядом специфических черт, в том числе и своими языковыми особенностями. К числу таких подсистем относятся общности двух типов:
изолированные подсистемы, члены которых физически (юридически) оторваны от остального общества: лагерь для заключенных, армия, военные училища, интернаты и т.д.;
открытые подсистемы, члены которых не отгорожены от общества физически или юридически, однако условия их жизни и деятельности приводят к их относительной самоизоляции: воровской мир (на свободе), школьники, студенты, некоторые профессиональные группы и т.д.
Рассматривая армию с социальной точки зрения, мы говорим о двух социальных группах, отличающихся друг от друга по целому ряду признаков: с одной стороны, это генералы, офицеры, прапорщики, с другой -военнослужащие срочной службы (солдаты). Члены первой из этих групп по своему социальному статусу мало, чем отличаются от прочих граждан. Говоря об армейской изолированной подсистеме, мы подразумеваем военнослужащих срочной службы (солдат) [Дьячок 1992].
Жизнь современных солдат протекает в замкнутых условиях казармы и прилегающей территории. За пределы части военнослужащий срочной службы может выйти в 3 случаях:
если ему предоставляется отпуск;
если он отпущен в увольнение;
если он направлен на работы за пределы части.
Помимо этого, контакты с прочим обществом осуществляются по следующим каналам: переписка; чтение газет и журналов; чтение книг; просмотр телевизионных программ и прослушивание радиопередач.
В военное время связь солдат с гражданской жизнью сведена к минимуму. Военные иногда месяцами совершенно оторваны от остальной части общества. Социальная изоляция солдат ведет и к их языковому обособлению и к появлению, в частности, собственного жаргона.
Можно выделить следующий круг вопросов, связанных с профессиональной речью военных, которые уже подверглись исследованию: а) синтаксис военных материалов (Москальская 1945; Петров 1980); б) военная лексика и фразеология, включающая в себя терминологический класс и военный жаргон (Судзиловский 1973; Кожин 1985; Гарбовский 1988; Червова 1997; Бучина 2003); в) военные сокращения (Шаповалов 1970; Борисов 1972); г) социально-групповые диалекты военнослужащих срочной службы (Жирмунский 1936; Судзиловский 1973; Дьячок 1990; Дьячок 1992; Loffler 1985: 135; Kuster 1989; Loffler 1994: 133; Heise 2000; binder 2001; Zimmermann 2003; Ehlers 2004); имело место создание словарей военных терминов (Таубе 1942; Таубе 1944; Бойко, Бакаленко, Куценко 1977; Парпаров, Артемов, Азарх 1978; Артемов 1982; Тимохов, Токарев 1990) и словарей социально-группового диалекта военнослужащих срочной службы (Дьячок 1990; Дьячок 1992; Кнорре, Мирошкин 1999; Ауэрбах 2005; Horn 1899; Imme 1918; Fritz 1938; Kiipper 1970; Commenda 1976; Kupper 1978; Moller 2000); военные материалы исследовались в рамках теории перевода (Стрелковский 1970; Стрелковский, Ветлов, Филимонов 1973; Стрелковский 1979; Ефимов, Бойко 1985).
Однако речь военнослужащих срочной службы (солдат) до настоящего времени комплексному анализу еще не подвергалась.
Особенности речевого поведения немецких военнослужащих срочной службы в нашей работе исследованы на основе отраженных в художественных текстах речевых портретов солдат.
Речевой портрет представляет собой специфические фонетические, грамматические и лексико-фразеологические особенности «говорения» персонажа, которыми автор наделяет его речь, чтобы дать всестороннюю косвенную характеристику действующего лица [Riesel 1959: 403; Riesel , Schendels 1975: 288; Fleischer, Michel 1977: 214-215; Sowinski 1999: 121]. Большинство авторов указывают на то, что речь персонажа в художественном тексте строится по двум направлениям, выявляя его тождественность не только как представителя определенной социальной группы, возраста, уровня образования и т.п., но и как личности, индивидуума, со всеми присущими ему характерными особенностями [Розен 1959: 245; Долинин 1987: 37; Арнольд 1990:203; Пьянова 1997: 58; Авилова 2000: 19; Riesel 1959: 403; Krahl 1970: 103; Riesel, Schendels 1975:288; Fleischer, Michel 1977:214-215; Sowinski 1999: 121].
Конечно, любой речевой портрет в художественном тексте можно рассматривать как стилизацию, создание своеобразного стереотипа речи. Но, несмотря на это, речь персонажа позволяет представить основные тенденции и закономерности речевого поведения тех или иных единиц языка применительно как к отдельной личности, так и к определенным группам лиц в составе данного общества [Виноградов 1959: 118; Бахтин 1975: 149; Розен 1959; Тимофеев 1976: 44; Домашнев 1982: 188; Караулов 1987: 86; Пьянова 1997: 59; Авилова 2000: 19; Костецкая 2001: 5; Riesel, Schendels 1975: 288; Fleischer, Michel 1977: 214-215; Sowinski 1999: 121].
Обработка собранного материала привела нас к выводу о том, что уместно различать естественную прямую речь при непосредственных речевых контактах носителей языка (для этого вида речи мы предлагаем термин oratio naturalis) и ее отражение, отнюдь не зеркальное, воспроизведенное автором в художественном тексте (для этого вида речи мы предлагаем термин oratio fictionalis). Следует также отметить, что речевой портрет персонажа следует отнести к художественной речи (oratio fictionalis), которая существенно отличается от живых контактов носителей языка (oratio naturalis). Естественная речь сопровождается такими экстралингвистическими факторами, как
тональность, интонация, мелодия, выражение лица, мимика, жестикуляция, которые не находят своего прямого языкового выражения в вымышленной речи. Таким образом, можно утверждать, что oratio fictionalis «ущербна» по отношению к oratio naturalis.
Возмещение этой «ущербности» oratio fictionalis реализуется в речи персонажа с помощью авторских ремарок: Der schiittelte schlafig den Kopf: „Erst mtisst ihr alle da sein" [Remarque 1975: 9] и, в значительной части, с помощью глаголов говорения (verba dicendi): „Hang dich auf!" fauchte die Tomate [Remarque 1975: 11].
Глаголы говорения, на наш взгляд, образуют в системе языка функционально-семантическое поле, а не тематический ряд [Михедова 1971]. Под функционально-семантическим полем глаголов говорения (verba dicendi) в настоящем диссертационном исследовании понимается совокупность лексических единиц с интегральным признаком «говорения», имеющих коллективную доминанту sagen, fragen, antworten, в которой в самом общем виде передается значение всех компонентов поля, группирующихся вокруг доминанты, и периферию, модифицирующую основное значение доминанты в аспекте просодических или экспрессивно-эмоциональных коннотаций.
Объектом настоящего исследования являются речевые портреты солдат, отраженные в произведениях художественной литературы XX века. В качестве предмета исследования рассматриваются социолингвистические характеристики речи солдат военнослужащих срочной службы на примере немецких солдат в период первой и второй мировых войн.
Актуальность настоящего исследования обусловлена следующими обстоятельствами:
объект исследования предполагает обращение к специфике феномена речевого портрета, который, на наш взгляд, нуждается в некоторых уточнениях;
речь солдат (военнослужащих срочной службы), которые являются одной из важнейших социальных групп любого общества, до настоящего времени комплексному анализу еще не подвергалась.
Целью исследования является социолингвистическая характеристика речи немецких солдат на лингвистическом и экстралингвистическом уровнях (установление с помощью глаголов говорения физических и эмоционально-экспрессивных признаков речевого поведения) и выявление социально-психологических и языковых причин их возникновения в аспекте феномена речевого портрета.
Для достижения поставленной цели в настоящей диссертации решаются следующие задачи:
уточнить соотношение понятий «дискурс», «художественный дискурс», «художественный текст»;
уточнить понятие категории речевого портрета;
рассмотреть глаголы говорения (verba dicendi) в аспекте полевой структуры языка;
выявить систему общих социолингвистических знаков, характерных для речи солдат;
установить корреляцию социальных, психологических и языковых факторов, повлиявших на выработку определенных речевых характеристик военнослужащих срочной службы.
Научная новизна исследования заключается: 1) в установлении особенностей речевого поведения военнослужащих срочной службы на примере немецких солдат в период первой и второй мировых войн; 2) в попытке рассмотрения глаголов говорения (verba dicendi) как функционально-семантического поля.
Теоретическая значимость диссертации заключается:
в уточнении понятия речевого портрета;
в рассмотрении глаголов говорения (verba dicendi) в аспекте теории полевой структуры языка;
в выявлении общих поведенческих языковых знаков, характерных для речи военнослужащих срочной службы, и установлении социально-психологических и языковых причин их возникновения.
Практическая значимость исследования определяется возможностью применения полученных результатов в лекционных курсах по общему языкознанию, лексикологии, стилистике, в спецкурсах по социолингвистике, лингвокультурологии, анализу текста, в практических курсах немецкого языка.
Материалом для исследования послужили романы немецких авторов XX века: «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка (Remarque Е.М., "Im Westen nichts Neues"), «Время жить и время умирать» Э.М. Ремарка (Remarque Е.М., "Zeit zu leben und Zeit zu sterben"), «Приключения Вернера Хольта» Д. Нолля (Noll D., "Die Abenteuer des Werner Holt: Roman einer Jugend"), «Мы не пыль на ветру» М.В. Шульца (Schulz M.W., "Wir sind nicht Staub im Wind"). Данные произведения были выбраны, поскольку их героями являются солдаты. Кроме того, действие этих романов происходит на фоне первой и второй мировых войн, непосредственными участниками которых были сами писатели. Э.М. Ремарк проходил службу в пехотных войсках, кроме того, он был непосредственным участником военных событий в период первой мировой войн. М.В. Шульц и Д. Нолль служили в артиллерийских войсках в период второй мировой войны [Wilpert 1988]. Один из сослуживцев Э.М. Ремарка, прочитав его роман «На Западном фронте без перемен», произнес следующие слова: «Солдат в окопах, «серая скотинка», бедный пес, наконец-то, получил право говорить. Каждое слово - это его речь и его образ мышления. Я знаю всех солдат, о которых говорит Ремарк, каждого в отдельности, и один из них -этоя»^Шег1980:75].
Проанализировано 1838 страниц, из которых для разностороннего анализа выбраны 115 слов-жаргонизмов и около 250 случаев употребления риторических фигур. Для сопоставления привлекались словари солдатского жаргона на материале русского и английского языков.
В настоящей работе используются следующие методы исследования: компонентный, контекстуальный, интерпретативный анализ.
В результате исследования сформулированы и выносятся на защиту следующие теоретические положения.
Речевой портрет представляет собой совокупность лексических, грамматических, фонетических особенностей речевого поведения персонажа, создающих его косвенную социолектическую и идиолектическую характеристику и выступающих в органическом единстве с авторскими ремарками и глаголами говорения, возмещающих «ущербность» oratio fictionalis по отношению к oratio naturalis. Глаголы говорения (verba dicendi), можно рассматривать как один из возможных конституирующих признаков речевого портрета. Verba dicendi образуют в системе языка функционально-семантическое поле.
Солдатский жаргон, являющийся отличительным признаком речи военнослужащих срочной службы, выполняет в дискурсивной практике солдата на передовой наряду с репрезентативной, дифференцирующей, экспрессивной и номинативной функциями также и защитную функцию.
3. Речь солдат характеризуется экспрессивностью, которая достигается за
счет активного использования таких стилистических фигур, как метафора,
эвфемизм, метонимия, антономасия, сравнение, игра слов. Основным
стилистическим средством является метафорический перенос. Свойством
«солдатской» метафоры является стремление представить смертельно опасные
ситуации и военные реалии с помощью сугубо «мирных» и безопасных
ситуаций и реалий.
В системе синтаксиса и грамматики для речевого поведения военнослужащих срочной службы характерно активное употребление неполных, простых предложений, эллипсисов, инфинитива вместо императива.
Речь солдат, для которой характерны постоянные нарушения литературной нормы, использование табуированной лексики, лексико-фразеологических единиц со сниженной стилистической окраской, слов и выражений, объединяемых общей эмоциональной окраской, связанной с негативным (критическим) отношением к условиям армейской жизни может рассматриваться как своеобразная (единственно доступная) форма протеста.
Апробация исследования производилась на научной конференции «Проблемы профессиональной компетенции» (ТГУ, 14-15 апреля 2005 г.), на научной конференции «Стилистика и теория языковой коммуникации» (МГЛУ, 20-21 апреля 2005 г.). По теме исследования опубликовано 7 статей общим объемом около 2,1 п.л.
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка использованной литературы.
В первой главе излагаются кратко различные подходы к определению понятия «художественный текст». На основании выводов лингвистической литературы даются определения терминов «дискурс», «художественный дискурс», необходимые для понимания специфики художественного текста.
Вторая глава посвящена феномену речевого портрета. В специальной литературе феномен речевого портрета рассматривается как двуединство идиолектической и социолектической характеристики персонажа. В данном исследовании предпринимается попытка уточнить феномен речевого портрета в аспекте оппозиции oratio naturalis - oratio fictionalis. Глаголы говорения (verba dicendi) рассматриваются в аспекте полевой структуры языка. Определяются ядро и периферия функционально-семантического поля глаголов говорения. В конце главы дается рабочее определение феномена речевого портрета.
Третья глава посвящена анализу социолингвистических характеристик речевого поведения военнослужащих срочной службы на примере немецких солдат в период первой и второй мировых войн. Определяется роль жаргонизмов в речи солдат. В данной главе уточняется понятие экспрессивности, и выявляются способы реализации экспрессивности в дискурсивной практике солдат.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования. Список литературы насчитывает 211 источников.
Дискурс vs. художественный дискурс
Объект исследования предполагает обращение к специфике художественного текста. Для этого необходимо обращение к таким понятиям, как «художественный дискурс» и «дискурс», которые широко используются в современной лингвистике, но трактуются в современном языкознании неоднозначно. Категория «дискурс» является достаточно сложным явлением, трактовка которого на протяжении последних 30 лет значительно менялась. Если в 60-70-е годы под ним понималась «связанная и согласованная последовательность предложений или речевых актов, то с позиции современных подходов - это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [Бабаян 1997]. В «Лингвистическом Энциклопедическом Словаре» дискурс определяется как «связанный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими формами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [ЛЭС 2002: 136]. «Дискурс» восходит к латинскому слову "discurum", означающему «бегство к и бегство от; расхождение» [Nunning 2004: 128]. В классической риторике этот термин означал «язык, рассматриваемый в действии, в реальном применении» [Орлов 1991: 14]. На сегодняшний день это многозначный и широко употребляемый термин, четкого и общепризнанного определения, охватывающего все случаи его употребления, не существует. Во вступительной статье к вышедшему на русском языке в 1999 году сборнику работ, посвященных французской школе анализа дискурса, П. Серио приводит заведомо не исчерпывающий список из 8 различных пониманий «дискурса»: 1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), то есть любое конкретное высказывание, 2) единица, по размерам превосходящая фразу, 3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания, 4) беседа как основной тип высказывания, 5) речь с позиций говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции, 6) употребление единиц языка, их речевая актуализация, 7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, например, феминистский дискурс, 8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований условий производства текста [Серио 1999: 26-27]. И.П. Сусов приводит 9 различных определений дискурса [Сусов 2003:287-288]. Своеобразной параллелью многозначности этого термина является поныне не устоявшееся ударение на нем. Чаще встречается ударение на втором слоге, но и ударение на первом слоге не является редкостью. Многозначность этого термина связана с многообразием подходов к исследованию этого сложного коммуникативного явления. На сегодняшний день можно выделить три основных подхода к определению понятия «дискурс»: формальный, функциональный и формально-функциональный [Макаров 2003: 85-87; Schiffrin 1994: 20-43]. При формальной интерпретации «под дискурсом будут пониматься два или несколько предложений, находящихся друг с другом в смысловой связи» [Звегинцев 2001: 170]. В данном случае речь идет о сверхфразовом единстве, сложном синтаксическом целом, выражаемом как абзац или кортеж реплик в диалоге, на первый план здесь выдвигается система коннекторов, обеспечивающих целостность этого образования [Карасик 2000]. Функциональная интерпретация в самом широком понимании - это трактовка дискурса как использование (употребление) языка. В русле функционального подхода выполнены работы Г.А. Орлова и В.Г. Борботько. Так, Г.А. Орлов трактует дискурс как категорию (естественной) речи, материализуемой в виде устного или письменного речевого произведения, относительно завершенного в смысловом и структурном отношении, длина которого потенциально вариативна: от сигматической цепи выше одного высказывания (предложения) до содержательно-цельного произведения (рассказа, беседы, описания, инструкции, лекции и т.п.) [Орлов 1991: 14]. По В.Г. Борботько, дискурс - это есть текст, но такой, который состоит из коммуникативных единиц языка - предложений и их объединений в более крупные единства, находящиеся в непрерывной смысловой связи, что позволяет воспринимать его как цельное образование [Борботько 1989]. При формально-функциональном подходе дискурс понимается как «высказывание» [Макаров 2000: 86]. Так, по определению Н.Д. Арутюновой, «дискурс - это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 2002: 137]. Э. Бенвенист последовательно использовал термин «дискурс» (discourse) вместо соссюровского термина «речь» (parole) [Бенвенист 1974: 312]. Дискурс, по определению Т.А. ван Дейка, в широком смысле есть коммуникативный акт или коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в определенном временном, пространственном и прочих контекстах. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. Типичные примеры - урок в классе, беседа, слушание в суде, тексты новостей, художественные тексты, хотя в письменных или печатных формах дискурса коммуникативная природа этого явления менее заметна. В случае письменной коммуникации писатели и читатели участвуют в процессе социокультурного взаимодействия [Дейк 1989: 122-123].
Художественный текст
Рассмотрение феномена речевого портрета предполагает обращение к специфике художественного текста. По этому вопросу на сегодняшний день сосуществуют и остро конфликтуют весьма различные, а иногда совершено несовместимые мнения. В современной теоретической ситуации можно считать общепризнанным утверждение о том, что специфика художественного текста не раскрывается через какое-нибудь единственное статическое, раз и навсегда данное определение; границы, содержание и объем этого понятия исторически изменяются, а одни и те же признаки не обладают раз и навсегда данной эстетической спецификой, но обретают различные значения на разных этапах развития культуры [Гиршман 2000: 3]. Предельным развитием этой общей идеи можно считать утверждение Ц. Тодорова о том, что не существует единого понятия литературы, а есть лишь множество литературных дискурсов, выполняющих эстетические функции в различных историко-культурных контекстах [Тодоров 1983: 335-369]. И.В. Арнольд также указывает на то, что язык художественной литературы не может быть отнесен к функциональным стилям, поскольку в художественной литературе можно усмотреть признаки, характерные для языка научного, разговорного, публицистического стиля и т.д. [Арнольд 1990: 251]. Многие исследователи выделяют такие особенности языка художественных текстов, как образность, метафоричность [Пустовойт 1965: 234; Максимова 1968: 100; Кожина 1993: 202; Тряпицына 2000: 4; Будагов 2001: 31; Brandes 1990: 209; Klein 1992: 30; Handler 1993: 42], использование всех средств национального языка [Шмелев 1964: 38; Шмелев 1977: 34; Бондалетов, Вартапетова, Кушлина, Леонова 1989: 209; Кожина 1993: 201], эмоциональность, экспрессивность [Пустовойт 1965: 234; Максимова 1968:100; Кожина 1993: 202; Plett 1979: 21; Brandes 1990: 209; Klein 1992: 30; Павлючко 1999; Тряпицына 2000:4; Handler 1993:42]. Так, в современной лингвистике принято выделять языковую и художественную метафоры, различия между ними могут быть сведены к следующему: 1. Языковая метафора отражает очевидный признак или выражает ходячие «коннотации». В художественной метафоре происходит сближение самых отдаленных сущностей, устанавливается нетривиальное подобие (так как из бесчисленных связей между элементами реальной действительности избираются самые неявные), что придает такой метафоре аналогичный характер и создает впечатление семантической аномалии. 2. Языковая метафора воспроизводима, в то время как художественная представляет собой единичный акт наименования. 3. Языковая метафора выполняет коммуникативную функцию, а художественная - эстетическую [Иванова 1999: 29]. Д.Н. Шмелев, А.И Ефимов отмечают, что главное отличие художественной речи заключается в отсутствии «штампов», заключающихся, прежде всего, в механическом применении ходячих эпитетов, часто употребляемых сравнений, утративших способность вызывать какие-то эмоции [Ефимов 1969: 104; Шмелев 1969: 33-34]. «Выразительность образной речи достигается путем метафорического употребления слов, удачных сравнений, отличающих художественную речь от разговорно-бытовой. Прелесть нового, неожиданного и оригинального в произведениях мастеров слова подкупает читателя. „. И чем смелее и оригинальнее писатель в поисках новых средств словесно-художественной изобразительности, тем ярче его язык, тем сильнее он действует он на читателя» [Ефимов 1969: 104]. Д.Н. Шмелев замечает, что «для творчества больших поэтов характерно не только создание новых метафор, но и своеобразное использование традиционных формул» [Шмелев 1969: 33-34]. Но такие характеристики, как образность, эмоциональность, использование всех средств национального языка присущи не только художественному тексту [Арнольд 1990: 251]. Р.А. Будагов отмечает, что, например, образность в произведениях различных писателей неодинакова и выполняет различные функции, но можно назвать и писателей, для которых образность языка вообще не очень характерна. Но именно в художественном тексте они выступают как коммуникативное и как эстетическое средство воздействия на читателя. Единство эстетической и коммуникативной функции и составляют специфику любого художественного текста [Будагов 2001: 41]. В исследовательских работах последних лет феномен художественного текста нередко объясняется исходя из его знаковой природы [Лотман 1970; Тураева 1986; Тамарченко, Тюпа, Бройтман 2004; Keller, Hafner 1990]. Литература как один из видов искусства является деятельностью семиотической - знаковой.
Речевой портрет как двуединство социолектическои и идиолектической характеристики персонажа
При всей важности любых частей художественного текста человек занимает в нем особое место. Он является не только объектом описания, но и центром художественного произведения, той семантической доминантой, которая обуславливает принципы организации текста, впитывает семантические признаки его частей, и все это в совокупности создает текстовое единство. Центральное место персонажа в художественных текстах определяется антропоцентричностью литературы [Родионова 2003: 7].
На основе совокупности всех лингвостилистических средств, относящихся к персонажу, рождается его литературно-художественный портрет, к которому относятся описание «внешнего» и «внутреннего» состояния героя, так и показ его действий, взаимоотношений с другими персонажами, манера говорить и думать. Понятие литературно-художественного портрета нельзя смешивать с понятием речевого портрета, являющегося частью общего литературного портрета персонажа [Домашнев 1983: 86].
«Речевой портрет представляет собой характеристику действующего лица посредством его манеры говорения» [Sowinski 1973: 390]. О.С. Ахманова определяет речевой портрет как «особый подбор слов, выражений, оборотов речи т.д. как средство художественного изображения действующих лиц литературного произведения» [Ахманова 2004: 385].
Также следует подчеркнуть, что «речевая характеристика персонажа не ограничивается его прямой речью, то есть речью, передаваемой дословно в виде самостоятельного предложения и соответственно выделяемой знаками препинания. Речь персонажа различными способами проникает в авторскую и переплетается с ней» [Арнольд 1990: 203]. «В понятие речевого портрета включается, прежде всего, непосредственная речь литературных героев, воспроизведенная в прямых высказываниях, диалогах с другими действующими лицами, а также их внутренних монологах, размышлениях, через которые автор раскрывает личность персонажа» [Пьянова 1997: 56]. Таким образом, речевой портрет персонажей создается посредством прямой, косвенной и несобственно-прямой речи и их смешанными формами. «Под прямой речью в художественном произведении понимается передача письменных или устных слов одного из персонажей в их буквальном виде, с сохранением всех языковых особенностей его речи, а также эмоциональных оттенков выражения» [Домашнев 1983: 89]. «Речь одного персонажа может передаваться другим персонажем или автором в виде косвенной речи. ... При изображении внутренних переживаний персонажа, его мыслей, впечатлений от происходящего используется внутренний диалог, или, как его еще называют, пережитая речь, несобственно-прямая речь» [Арнольд 1990: 203]. При анализе речевого портрета художественного героя необходимо также учитывать рассуждения автора или других персонажей о манере говорения данного героя [Riesel, Schendels 1975: 288; Пьянова 1997: 59].
Большинство авторов указывают на то, что речь персонажа строится по двум направлениям, выявляя его тождественность не только как представителя определенной социальной группы, возраста, уровня образования и т.п., но и как личности, индивидуума, со всеми присущими ему характерными особенностями [Розен 1959: 245; Арнольд 1990: 203; Пьянова 1997: 58; Riesel 1959: 403; Krahl 1970: 103; Riesel, Schendels 1975: 288]. Речевая характеристика содержит два вида информации: первый вид информации свидетельствует о принадлежности художественного героя к какой-либо конкретной общности; второй вид информации свидетельствуют о его индивидуальности и даже оригинальности [Page 1980: 137]. Это одно из основных условий создания реалистических художественных образов, где «каждое лицо тип, но вместе с тем определенная личность» [Розен 1959: 247]. Писатель заставляет говорить своих героев соответственно общественно-историческим условиям их формирования и воспитания как личностей, соответственно их статусу и занимаемым ими социально-психологическим позициям, приспосабливая речевое поведение героев к контекстам их социально-психологического поведения [Караулов 1987: 86]. «Каждая языковая личность в общении наделена коммуникативными, социальными и психологическими ролями, совокупность которым и создает речевой портрет личности, определяет варианты речевого поведения, воплощающиеся в бесконечном разнообразии высказываний и текстов» [Кочетова 1999: 44]. И действительно, с одной стороны, каждый человек - это личность с присущими ей индивидуальными чертами характера, определенным эмоциональным настроем, со своим отношением к окружающему миру. С другой же стороны, он выступает как представитель определенного социального, национального, профессионального и т.п. слоя. Все это находит свое отражение в манере говорения каждого индивида.
Н.С. Авилова в своей статье, посвященной анализу речевых портретов в пьесе Л.Н. Толстого «Плоды просвещения», указывает на то, что центром комедии являются сцены, где показано отношение господ к мужикам и мужиков к господам. И это отношение ярко выражается в построенной автором схеме действующих лиц, а одним из средств выразительности выступает речь персонажей [Авилова 2000: 14]. «Речевая характеристика персонажей комедии ... чрезвычайно разнообразна и прямо отвечает цели их типизации. В противопоставлении мужиков господам выявляются характерные приметы каждой из этих групп, но вместе с тем оттеняются индивидуальные черты каждого из действующих лиц» [Авилова 2000: 19].
Лингвистические характеристики речи военнослужащих срочной службы
В настоящем диссертационном исследовании солдаты (военнослужащие срочной службы) рассматриваются как особая социальная группа людей, разделяющая общие ценности, взгляды и речевые особенности. В любом обществе существует ряд социальных подсистем, отличающихся большим своеобразием и обладающих рядом специфических черт, в том числе и своим жанром внутригрупповой речи (арго, жаргоном). К числу таких подсистем относятся социальные общности двух типов: 1. Изолированные подсистемы, члены которых физически (юридически) оторваны от остального общества, при этом выход за приделы подсистемы в данный момент или невозможен, или ограничен законами и правилами. Наиболее типичным представителем таких подсистем является лагерь для заключенных (зона), который может служить примером изолированной подсистемы в наиболее чистом виде. Менее замкнуты армия, военные училища, детские дома и интернаты, детские спецучилища; 2. Открытые подсистемы, члены которых не отгорожены от общества физически или юридически, однако условия их жизни и деятельности приводят к их относительной самоизоляции. Наиболее яркий пример подобной подсистемы - преступный мир (на свободе, не в лагере). К этой же категории относятся студенты, школьники, некоторые профессиональные группы и группы, объединенные общностью интересов [Дьячок 1992]. Как уже было сказано, армия является изолированной подсистемой, однако это определение не вполне точно. В действительности армия состоит из двух социальных групп, отличающихся друг от друга по целому ряду признаков: с одной стороны, это - генералы, офицеры, прапорщики, с другой -военнослужащие срочной службы. Говоря об армейской изолированной подсистеме, мы имеем в виду, конечно, солдат, жизнь которых протекает в замкнутых условиях казармы и прилегающей территории. М.Т. Дьячок замечает, что каждая из этих общностей имеет собственное арго, которое, следовательно, можно определить как язык социальной подсистемы. Термин «арго» автор предпочитает синонимичному «жаргон», указывая на то, что он в отличие от последнего лишен пейоративного значения [Дьячок 1992]. «Любое более или менее длительное объединение людей в группу для совместной деятельности (независимо от цели) сопровождается их обособлением от остального коллектива говорящих на языковом уровне» [Марочкин 1998: 23]. Речевые портреты солдат в проанализированных нами романах представляют собой своеобразный сплав военной терминологии, солдатского жаргона и «гражданской речи», то есть особенностей речи, присущих индивиду еще до его службы в армии. М. Фритц замечает, что «во все времена солдаты говорили на своем особом языке. Этот солдатский язык формируется в среде солдат на основе того языка, на котором говорят солдаты - представители народа. Солдаты были и остаются швабами, франками или баварцами, они перестают быть рабочими, крестьянами, ремесленниками или работниками пера. Территориальное и профессиональное прошлое солдат остается в их речи точно так же, как и появляется и то новое, что отражает сущность солдата. Это новое находит свое выражение в словоупотреблении» [Fritz 1938: 6]. Речь солдат выделяется, прежде всего, на основании существования особого вида внутригрупповой речи. Специфика солдатского быта, своя социальная иерархия (старослужащие - новобранцы), существующие в армейской среде традиции, своя система материальных и этических ценностей приводят к появлению лексики, характерной именно для солдатского арго [Дьячок 1999]. Не случайно, наряду с терминами «военный жаргон» [Бойко, Борисов http; Коровушкин 1994], «армейский жаргон» [Кнорре, Мирошкин 1999], «военный сленг» [Судзиловский 1973], «траншейный жаргон» [Жирмунский 1936: 116-118] в лингвистике употребляются термины «солдатский жаргон» [Бондалетов 1982: 56; Duden 1996: 1415], «солдатский сленг» [binder 2001], «солдатское арго» [Дьячок 1990; Дьячок 1992].