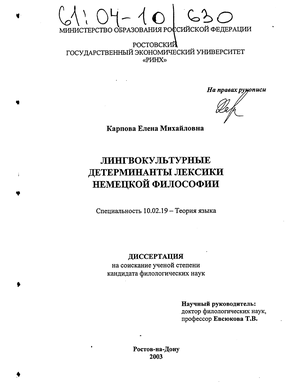Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Немецкая философия как особый лингвокультурныи тип 13
1. Теоретическая база лингвокультурологии 13
1.1. Подходы и методы в лингвокультурологии 13
2. Философский язык как объект изучения философов и лингвистов 23
2.1. Проблема философского языка 23
2.2. Понимание природы философских понятий 31
3. Лингвокультурная характеристика немецкой философии 41
3.1. Концептуальные основы немецкой философии: философия античности vs. немецкая философия 41
3.2. Концептуальные связи немецкой философии с другими философскими лингвокультурами 57
3.3. Немецкая философия как отдельная лингвокультурная область 62
Выводы по главе 1 68
ГЛАВА II. Лексика немецкой философии в лингвокультурологическом описании 71
1. Абстрагирование и словосложение в немецком языке как базовые способы порождения философских концептов-понятий 71
2. Специфическая природа лексики немецкой философии 83
3. Смыслообразующие стратегии лексики немецкой философии 108
Выводы по главе II 119
Заключение 121
Библиографический список использованной
Литературы 126
- Проблема философского языка
- Концептуальные основы немецкой философии: философия античности vs. немецкая философия
- Абстрагирование и словосложение в немецком языке как базовые способы порождения философских концептов-понятий
- Смыслообразующие стратегии лексики немецкой философии
Введение к работе
Современный этап развития научной мысли характеризуется важнейшим методологическим сдвигом в сторону гуманитарного знания. Для лингвистики этот методологический поворот означает возрастание интереса к языку как феномену человеческой культуры. Внутри лингвистики вычленяются дисциплины, занимающиеся изучением языка в тесной связи с сознанием и мышлением человека, культурой и духовной жизнью народов. Выражением указанной тенденции явилось появление десятилетие назад новой лингвистической дисциплины -лингвокультурологии.
Поскольку лингвокультурология как самостоятельная научная дисциплина с собственным предметом и методами исследования сформировалась сравнительно недавно, решение многих вопросов в частных исследованиях языковых явлений зависит от принятой методологической установки.
Проблема выделения и лингвокультурологического описания отдельных лингвокультурных областей или сфер относится именно к таким проблемам: в рамках лингвокультурологии до настоящего времени не выработаны методологические параметры подобного рода исследований, не решены многие частные вопросы, специфичные для этой научной дисциплины.
Мы обращаемся к сфере немецкой философии как отдельной лингвокультурологической области и видим свою задачу в том, чтобы охарактеризовать эту область в указанном ключе. С этой целью мы рассматриваем детерминанты лексики немецкой философии со стороны языка и со стороны культуры. Тем самым, наш подход можно определить
как лингвокультурологический, а общую направленность работы - как частное лингвокультурологическое исследование.
В диссертации делается попытка рассмотреть немецкую философию в качестве отдельной лингвокультурной единицы и определить детерминанты немецкой лексики философских понятий со стороны языка и со стороны культуры. Традиционно существовавшая «изоляция»
ф лингвистов и историков философии не позволяла осуществить подобное
исследование. С появлением лингвокультурологии как самостоятельной научной дисциплины стала возможна постановка вопроса, решающая проблему одновременно «в интересах» лингвистики и культурологически ориентированной философии, решении ряда исследовательских задач с синтезом знания по философии, общему и частному языкознанию. В связи с указанной направленностью исследования, библиографический список содержит большое количество философских работ.
* Лингвокультурологическое исследование лексики немецкой
философии есть, таким образом, выражение общей тенденции развития гуманитарной мысли. В современном процессе интернационализации культурно-философских исследований на одно из самых важнейших мест выдвигается проблема взаимодействия различных исторически сложившихся национальных типов культуры.
В Германии философия является существенной составляющей
культурной истории, «истории духа». Исследование
лингвокультурологических детерминантов лексики немецкой философии позволяет, в частности, выделить некоторые общие закономерности «жизни» философских понятий в том или ином типе лингвокультуры. Все вышеизложенные причины делают данное диссертационное исследование актуальным.
Обращение к философской терминологии выявляет главное противоречие лингвистики, противоречие не внутрилингвистического
5 плана, а между лингвистикой и миром: "... plus la linguistique s'epure et se reduit a la science de la langue, plus elle s'expulse de son champ ce qui concerne le rapport du langage avec l'autre que lui meme - Чем больше лингвистика очищается и сводится к науке о языке (langue), тем больше она отторгает все, что касается отношения языка (langage) ко всему, что не есть язык" (Ricoeur 1969: 276-277).
Исследование философского слова с позиций лингвокультурологии в рамках настоящей работы позволяет в определенной степени снять указанное противоречие лингвистической семантики, что также указывает на актуальность осуществляемого исследования.
Создание философской системы или нескольких философских систем в той или иной стране в определенный исторический период подразумевает, прежде всего, выработку собственного философского языка. В относительно «поздних» культурах Европы, начиная с Рима и далее, создание философского языка всегда опиралось на более раннюю традицию, а именно - на философский язык Древней Греции. Как следствие, в европейских языках не только философский язык, но большинство понятий, связанных с интеллектуальной деятельностью, представляют собой в разной степени ассимилированные «квазигреческие» слова.
После греков наибольшее развитие философская мысль получила в Германии, а отдельным немецким философам принадлежит заслуга разработки философского лексикона, на котором основываются мыслители, работающие «в материале» и других европейских языков. В частности, Мартин Хайдеггер, известный своим техническим отношением к языку и созданием знаменитых «хайдеггеровских новообразований», которые «напрямую» заимствуются другими философскими лингвокультурами, в работе «Творящийся ландшафт: почему мы остаемся в провинции»
признается: «Труд над языковым выражением подобен противостоянию вздымающейся ели напору бури» (цит. по: Подорога 1991,102).
Проблема языка философии не могла не стать предметом обсуждения самих философов, и особенно ярко эта тенденция проявилась в XX веке. Историк философии Г.А.Заиченко пишет: «Среди многочисленных поворотов, которые в XX в. совершила научная и философская мысль, наряду с антропологическим, когнитивным, экологическим и другими, занимает свое заметное место и лингвистический поворот. В нем, может быть, как ни в каком ином, как в фокусе, отразился одновременно и трагический и подающий надежду на будущее, переломный характер нашей эпохи» (Заиченко 1991, 24). Драматизм ситуации точно передает В.В.Бибихин, когда, с одной стороны, ведет речь о призвании человека, языка и мира, а с другой, - об их разобщенности: а) "Мир требует человека для своего явления, человек в свою очередь требует мира, потому что иначе чем в целом мире себя не узнает. Мир требует человека, чтобы показать свою истину; человек требует мира, чтобы найти себя. Мир требует человека, чтобы присутствовать в языке. Человек осуществляется, давая слово миру. Это уравнение мира, человека и языка не похоже на математическое уравнение. Оно не решаемое, а решающее" (Бибихин 2002, 103); б) "Философское слово необходимо потому, что оно почти единственное, что у нас есть вместо отсутствующего мира. Из-за того, что мира нет, с пропажей слова, указывающего на мир, «пропадает и мир» (Бибихин 2002, 118) Выдающийся философ современности Мераб Константинович Мамардашвили отмечает, что "...философия - это язык, имеющий свои имманентные законы развития" (Мамардашвили 1991, 13).
Вскрыть эти законы самой философии, без обращения к научной мысли в других областях, невозможно. Исследование философского слова с точки зрения лингвокультурологии, осуществляемое в настоящей работе,
. 7 способно, как представляется, в определенной степени продвинуть решение
этого вопроса.
В различные исторические периоды в обществе складываются
способы осмысления действительности — определенные типы
философствования. В результате распространения того или иного типа
философствования складывается определенная культура
философствования, которая имеет в своей основе философское мышление, выражающее определенную мыслительную парадигму: мифологическую, догматическую, философскую. Мыслительная парадигма, в свою очередь, определяет собственно «предметы» философствования - философские понятия. Не менее важным фактором, определяющим тот или иной способ осмысления действительности, является то, в материале какого языка осуществляется философское мышление. Философские понятия оказываются представленными лексикой того или иного языка, а, как известно, прямого соответствия между понятиями и именами понятий нет. Заостряя данную проблему, можно сказать, что философ в определенной степени зависит и от культуры, в том числе, от культуры мышления, к которой принадлежит, и от языка, на котором создает свои произведения.
Методологическим следствием этого для лингвокультурологии является возможность рассматривать отдельные способы языкового мышления в той или иной культуре как отдельные лингвокультурные области. Такой подход, осуществляемый в данной диссертационной работе, и определяет новизну проведенного исследования. В настоящей диссертации впервые лексика немецкой философии рассматривается как некое целое в рамках научного предмета лингвокультурологии. Отметим, что в настоящее время не существует ни лингвистической, ни какой-либо другой научной теории философского языка. В данной диссертационной работе выявляются характеристики философского мышления, присущие немецкой философской лингвокультуре как определенному типу
8 философского мышления, и описываются лингвокультурные детерминанты лексики немецких философских понятий. Диссертация представляет собой частное лингвокультурологическое исследование.
Лексика философских понятий есть предмет мысли философов и уже в этом отношении представляет собой проблему. А.В. Ахутин пишет: «Говорят: философ думает о "природе вещей", о Боге, мире, душе, свободе, бытии... Но где и как он "берет" эти "предметы", чтобы о них думать? Не заимствует ли философия их, как вороватая служанка похищает фамильные сокровища хозяев, — у богословия, науки, поэзии? Может быть, философия и впрямь не имеет своего собственного, особого дела и способна лишь быть при деле, служить тем, кто занимается делом (в качестве, например, теории политического благоу строения, или естественнной теологии, или наукоучения, или методологии, или толкования поэзии)? Служить — или мешать, вечно путаясь под ногами, дергая за рукава, превращая однозначные понятия в многозначительные, а попросту говоря, двусмысленные метафоры или идеологические штампы» (Ахутин 1996,67).
В определенном смысле философский язык - эта та языковая область, где творческая функция языка выявлена наиболее ярко. Поэтому исследование языка философии способно акцентировать и прояснить эту характеристику языка вообще, идущую от В. фон Гумбольдта. Как известно, европейская традиция проблемы логоса выражает взгляд философов от античности до В. фон Гумбольдта на язык как на не только "органон" ("инструмент") изображения и сообщения в уже готовом мире вещей и людей, а признает за языком своеобразную творческую функцию. В этом смысле следует понимать выражение В. фон Гумбольдта о языке не как произведении, ergon, а как о деятельности, energia; т.к. язык следует рассматривать 'не как мертвое, созданное образование, а как активное, создающее (Humboldt 1836, Гумбольдт 1984).
Как мы подчеркнули выше, проявление творческой функции языка в лексике философских понятий ярко выражено, поскольку с помощью последних философ осуществляет мышление, создание новых содержаний, смыслов, новых «пониманий», причем одни и те же имена понятий получают у разных философов, и даже у одного и того же философа, различающиеся истолкования. Это обстоятельство делает невозможным применение традиционных методов лексикологии или лексикографии -дефиниционного и дефиниционно-компонентного анализов - при исследовании лексики философских понятий, поскольку все они ориентированы на значение, а философское слово «живет» вкладываемыми в него смыслами.
В связи с этим основная цель диссертации заключается в исследовании философского слова с точки зрения лингвокультурологии и выявлении лингвокультурных детерминант немецкой философской лексики. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1) дать методологическое осмысление теоретической базы
лингвокультурологии в применении к описанию философского языка;
выявить основные закономерности изучения философского языка и рассмотрения природы философских понятий в рамках философии и лингвистики;
охарактеризовать «культурную» составляющую лексики немецкой философии в лингвокультурологическом описании, для чего определить концептуальные основы и концептуальные связи немецкой философии с другими философскими лингвокультурами, а также выявить специфические черты немецкой философии как особой лингвокультурной области;
4) провести анализ «языковой» составляющей лексики немецкой
философии в лингвокультурологическом описании, для чего исследовать
10 абстрагирование и словосложение в немецком языке как базовые способы порождения философских концептов-понятий и описать специфическую природу лексики немецкой философии на примере имен философских понятий М. Хайдеггера;
5) выявить смыслообразующие стратегии лексики немецкой философии.
Поскольку в работе решаются задачи выявления лингвокультурных детерминант лексики немецкой философии, т. е. исследование совмещает культурологическую проблематику (выявление концептуальных основ и концептуальных связей немецкой философии с другими философскими лингвокультурами) с собственно языковой проблематикой (описание немецких словообразовательных средств, используемых для создания абстрактных имен философских понятий), то основной метод исследования может быть определен как лингвокультурологический герменевтико-интерпретационный. Этот метод представляет собой интерпретацию свойств лексики философских понятий параллельно в двух предметных областях - со стороны культурологии (культурологической компонентой описания является философская культура) и со стороны лингвистики. Это позволяет выявлять в качестве существенных только те характеристики исследуемой лексики, которые являются культурнозначимыми. Как следствие, оказывается возможным получить в рамках лингвокультурологии характерологическое описание немецкой философии.
Объектом исследования в настоящей работе выступает немецкая философия как особая лингвокультурная область. Причем, под «немецкой философией» не подразумевается и не может подразумеваться некое гомогенное образование: границы ее в принципе не определены, что подтверждается разнообразием «пониманий» «немецкой философии» самими философами. Так, ее определение с точки зрения Макса Шелера в
1915 году или Макса Вундта в 1941, совершенно отлично от современных определений Жака Деррида или Манфреда Бура.
С нашей точки зрения, основанием для обозначения некоторого образования в качестве отдельной лингвокультуры служит его смысловая и, в определенном смысле, лексическая обособленность. Мы рассматриваем сферу немецкой философии в качестве самостоятельного лингвокультурного типа, поскольку в интересующем нас отношении немецкая философия представляет собой самостоятельное смысловое пространство. Это выявляется при анализе немецкой философии как со стороны культуры, так и со стороны языка.
Лингвокультурные детерминанты лексики, привлекаемой для обозначения немецких философских понятий, выступают в качестве предмета настоящего исследования. Тем самым, наш объект исследования получает лингвокультурологическое описание со стороны своих базовых лингвокультурных характеристик.
Материалом исследования послужили работы немецкого философа Мартина Хайдеггера «Sein und Zeit" „Unterwegs zur Sprache", поскольку известное техническое отношение к языку этого философа наиболее ярко способно продемонстрировать возможности немецкого языка в отношении «философского мышления». Еще одной причиной нашего обращения именно к М. Хайдеггеру является «сверхзадача» его философии -возвращение к греческим философским истокам, что позволяет нам наиболее ярко выявить лингвокультурные детерминанты немецкой философии.
Теоретическую значимость нашей работы мы усматриваем в том, что в ней выстраивается система лингвокультурологического описания немецкой философии, рассматриваются некоторые характеристики философского* слова, которые можно определить как предпосылки лингвокультурологической теории философского слова, а сделанные в
12 результате исследования выводы могут быть экстраполированы на материал других философских лингвокультур.
Работа может иметь практическую ценность для разработки курсов по языку философии и лингвокультурологии. Материалы исследования могут быть полезны для лингвистов, философов и теоретиков культуры.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедр иностранных языков и лингвистики и межкультурной коммуникации Ростовского государственного экономического университета (PPfflX). Основные выводы работы апробированы в докладах на научно-практических конференциях различных уровней в г.Ростове-на-Дону (РГПУ, СКАГС, ДГТУ) в 2001-2003 гг.. Результаты исследования отражены в 4 публикациях автора.
Построение работы определено составом исследовательских задач и методом. Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения.
Проблема философского языка
Фридриху Ницше принадлежит фраза «Die meisten Denker schreiben schlecht...» [большинство мыслителей пишут плохо], которая «заостряет» проблему языка философии. Для философов язык — их единственный инструмент и одновременно объект воплощения мысли. В то же время, проблема языка философии - не "чисто" философская, но также и лингвистическая, и культурологическая. Философский язык - это всегда какой-то конкретный язык — греческий, латынь, немецкий, французский, русский... Задача осмысления природы, возможностей языка, а, следовательно, и границ, выйти за пределы которых он не может, - для языка философии приобретает особую остроту. Язык - живой организм, в котором происходят процессы, аналогичные процессам в жизни человека, общества. Не только слова, но и отдельные языки рождаются и умирают, становясь "мертвыми" подобно людям или цивилизациям, они оставляют больший или меньший след в истории, в языковой деятельности последующих поколений. В этой связи представляется чрезвычайным важным учитывать то, на каком языке создается философский текст, ибо и язык, и культура, в рамках которой осуществляется философское мышление, играют очевидно большую роль.
Обратимся к рассмотрению проблемы философского языка как такового. Отношение философа к языку является постоянной темой философствования на протяжении всей европейской философской истории. Как принято указывать вслед за великими мыслителями прошлого, философия созерцает язык в целом либо в качестве мира чистых идей — значений слов (Платон), либо в качестве мира наглядных форм (Аристотель), либо иным способом. Мераб Константинович Мамардашвили в лекции «Искусство мыслить» подчеркивает: «Философия занимается вечными проблемами (проблема — нечто, что разрешимо конечным числом шагов). Философские проблемы не решаются раз и навсегда, каждый раз нужно все делать заново» (Мамардашвили 1995, 88). Как следствие, каждая «удавшаяся» попытка философа обращения к вечным философским проблемам завершается выработкой нового философского -языка: созданием новых понятий или семантическими сдвигами в уже «устоявшейся» философской терминологии, изменениями логики мыслительной работы с ними и т.д. Причем, именно этот аппарат мы и ассоциируем в первую очередь с каждой конкретной философией, и философия при этом настолько глубока, насколько сама эта речь языка о самом себе глубока.
Постоянно осуществляющееся творчество ставит философию перед необходимостью обновления, и поэтому процесс философского мышления на всем протяжении европейской истории сопровождается расширением речевых ресурсов, в чем, в частности, выражается «материально» различие философских систем и методов. Отметим, что изучение языковой «материи» философского мышления, которое может быть осуществлено лингвистическими средствами, оказывается важным для понимания сути философской мыслительной работы.
Таким образом, можно сказать, что каждая конкретная философия, будь то целое философское направление или отдельный философ, создает свой язык. Однако то, что философия выступает как конкретная философия (философская система, философский метод и т. д.), не означает ничего другого, кроме того, что она сама является некоторым учением или некоторым знанием и как таковая подлежит философской интерпретации и критике. Это, в свою очередь, означает, что язык этой конкретной философии подвергается исследованию и оценке. Внутри самой философии наиболее значимая интерпретация философского языка была дана Г.В.Ф. Гегелем и Мартином Хайдеггером, которые понимали специфический язык философии как праязык всего человечества, к которому оно идет (Гегель) или от которого оно уходит (Хайдеггер).
Французская исследовательница, историк философии Ивон Белаваль пишет: «Nous ne savons jamais a la rigueur de quoi parle le philosophe. Tantot son langage nous oriente vers les choses et leurs images, et c est par la qu il nous convainc: nous oublions les mots, nous manipulons des idees ou its semblent n etre pour rien, nous satisfaisons les tendances d une pensee concrete et technicienne. Tantot son langage expressif invite a depasser les representations pour nous faire acceder au monde de rintelligible ou du devenir absolu ...(Belaval 1952, 80 - 81). [Мы никогда не знаем наверняка, о чем говорит философия. Иногда ее язык направляет нас к предметам и их образам, и там он нас побеждает: мы забываем слова, мы манипулируем идеями там, где они уже кажутся бессмысленными, мы удовлетворяем потребности в конкретном, техническом мышлении. Иногда философский экспрессивный язык заставляет нас уходить от конкретных представлений и уводит нас в интеллигибельный мир, заставляя сливаться с абсолютом]. В приведенной цитате верно, на наш взгляд, подмечено, что философское мышление привлекает для своего осуществления самые разноплановые языковые средства.
Традиционно философский язык сравнивают с языком науки, религии, поэзии, поскольку это сопоставление позволяет выявить общие и различающиеся признаки в этих лингвокультурных областях, и тем самым свести характеристики философского языка в некоторую систему.
Концептуальные основы немецкой философии: философия античности vs. немецкая философия
Европейский тип рациональности возник в Древней Греции. Со времени пре-сократиков греки видели окружающий мир через посредство концептов и теорий, а не через мифы или откровения богов. Греческой культуре мы также обязаны установлением «института диалога» как культурной нормы, допускающей наличие оппозиции между сторонниками и противниками той или иной высказываемой точки зрения; причем это не приводило у греков к физическому устранению какой-либо из дискутирующих сторон.
Древняя Греция представляет собой тип «говорящей» культуры в противоположность восточному «молчащему» типу, и в такой ситуации любое имя могло становиться философским концептом, если оно произносилось и обсуждалось свободным человеком, гражданином полиса - философом. Стремление давать словам определения, и рефлексивная философская осведомленность об этом послужили причиной особого положения философа. Именно отстранение от центральной позиции в языке, вызванное жаждой давать определения, создало дистанцию, с которой философ смог созерцать язык как целое.
Вместе с тем, философ целиком заключает язык в себе. Пространство определений сжимается для философа в чистое различие между языком, в свете которого сам язык созерцается, и языком, который созерцается в своем собственном свете. Отношение может быть и перевернуто. А именно, философ из глубины, в которую погрузили его мудрость и знание, созерцает блеск самого языка. Движение от Платона к Хайдеггеру есть яркий пример такого движения. Что касается наименования, то древние греки выделяли имена собственные — категории и имена нарицательные — просегории. Имена собственные обозначают (или указывают) по преимуществу смысл, нарицательные - значения. Позднее Дуне Скотт в учении о категориях и значении разовьет этот подход в теорию. У него учение о категориях направлено на бытие сущего, а учение о значениях (grammatica speculativa) выступает как метафизическое исследование языка в его отношении к бытию. Это стало возможным, когда имена перестали указывать, а начали обозначать.
Нельзя не согласиться с Мартином Хайдеггером, когда он пишет: «В эпоху расцвета грекскости знак постигался из указывания, создавался указыванием ради него самого. С эпохи эллинизма (Стоя) в результате фиксации возникает знак как орудие для обозначения, посредством которого представление устанавливается и направляется с одного предмета на другой» (Heidegger 1993).
Разработанный в Греции способ постижения мира сохранялся на всем протяжении истории Европы, причем, не только в философии, но был заимствован всеми сферами культуры, включая и богословие. А.Ахутин (Ахутин 1996), подчеркивает, например, что в IV веке отцы и учителя христианской церкви, как правило, проходили выучку в неоплатоновских школах и мастерски владели как риторическим, так и философским искусством. Во всеоружии технически разработанного философского языка, уточняя, различая и- переосмысливая фундаментальные понятия греческой философии ("усия", "ипостась", "фюсис"), чеканили и оттачивали они догматические формулы, создавали язык христианского богословия.
А.Ахутин отмечает: «Христианская мысль Средних веков — и на Западе, и на Востоке — вырастала в школах, выстроенных неоплатонизмом и аристотелизмом. Заквашена она, однако, была Словом, "которое было у Бога и которое было Богом". Поэтому, вырастая, она перестраивала эти ремесла, обработки дерева. Гр. «материя» (у Аристотеля и др.) имеет первым значением «лес (forest, woodland)», затем «срубленное дерево, древесина» и, наконец, «материал». Лат. materia и materies, -ei f происходит от mater «мать» и означает первоначально «маточную часть дерева, главную часть древесины», затем «дерево как строительный материал», затем «материал вообще» и, наконец, «основу, первопричину, материю в философском смысле». Англ. matter (фр. matiere и т.д.) очевидным образом восходят к этому латинскому термину. Испанский язык хранит одновременно два этапа развития одного и того же слова: madera «древесина» (восходящее к лат. materia в его первом и древнейшем значении) и materia «материя» как философский термин.
Концепт «основа» восходит к термину ткачества. Рус. (соотв. ел.) основа в первом значении «основа ткани» является производным от глагола сновать, ел. sbnovati «бросать, вбрасывать нить и уток в основу ткани». Лат. pamatas «основа» восходит к тому же концепту ткацкого ремесла, но только выраженному другой лексемой - от глагола mesti metu «бросать», ср. audckla mesti «подрезать бахрому у вытканного материала», metmens, metmenys «основа ткани», mestuvai «сновальня», совр. «сновальная машина в текстильном производстве», и др.
Абстрагирование и словосложение в немецком языке как базовые способы порождения философских концептов-понятий
Философские понятия с лингвистической точки зрения представляют собой абстрактные имена, обозначающие абстрактные предметы. Для того чтобы понять, в какой степени порождение философских понятий связано с лексическими возможностями некоторого языка, обратимся к рассмотрению, с одной стороны, природы абстракции и, с другой стороны, лексических возможностей немецкого языка в отношении порождения абстрактных имен.
Термин «абстракция» можно толковать двояко: как определенный познавательный процесс и как результат этого процесса. Как познавательный процесс, абстракция представляет собой мысленный анализ предмета или группы предметов с некоторой точки зрения, в результате чего мысленно вьщеляется одно свойство предмета, которое считается особенно важным.
В философии и общей методологии различают родовидовую абстракцию и абстракцию рациональной структуры предмета.
С точки зрения родовидовой абстракции, абстрактное понятие понимается в следующем смысле: Термин (или понятие "береза") — это общее от единичных берез. Слово «береза» означает единичные березы и представляет собой обобщение эмпирически наблюдаемых берез — родовое, общее понятие. Полагают, что сначала существуют единичные предметы, потом возникают слова и термины, их обозначающие. Посредством же абстракции рациональной структуры предмета некоторый предмет выделяется как предельный, т.е. как такой абстрактный предмет, на примере которого далее строятся суждения о существенных свойствах реального предмета или предметов. Предельные понятия есть в своей сути те понятия, которыми оперирует философия на всем протяжении своей истории.
Себастьян Шаумян следующим образом описывает возникновение понятия о предельном предмете: «Понятие о пределе возникает так. Скажем, наблюдается движение тел. Трение и изменение скорости находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем меньше трение, тем меньше изменение скорости за единицу времени. Это позволяет представить предельный случай: когда трение прекращается, тело равномерно и прямолинейно движется до тех пор, пока внешние воздействия не выведут его из этого состояния — закон инерции. Тело, на которое не действуют силы трения, — это предельный предмет, представляющий собой рациональную форму движения реальных тел в реальном мире. Другой пример. Что такое фонема? Это — предельный предмет, на примере которого мы рассуждаем о существенных свойствах звуков языка. Существенные свойства звуков языка — это функциональные различия и тождества звуков языка, которые независимы от их физических различий и тождеств (Шаумян 1999,186 - 187).
Онтология «абстрактных предметов» в наиболее общем виде описана в логике. Так, Д.П.Горский пишет: «Оперировать свойствами в чистом виде, независимо от предметов, которым они принадлежат (например, отделять их от носителей, комбинировать с другими свойствами и т.п.), можно лишь через посредство абстракции. Поэтому они и называются абстрактными.предметами (или абстракциями)» (Горский 1961, 22). И далее: "На другой более высокой ступени абстрагирования мы начинаем... свойства мыслить отрешенно от предметов. Вместо понятий "параллельный», "красивый", "скромный", "белый", "бедный" мы образуем понятия "параллельность», "красота", "скромность», "бедность", "белизна". Эти понятия мыслятся нами как особые предметы. Они не являются предикатами, а представляют собой «абстрактные предметы»... В отличие от реальных, материальных предметов, эти «абстрактные предметы» в своем отвлеченном от индивидуумов виде существуют лишь как отражения в нашем уме определенных свойств материальных предметов (Горский 1961,86). В лингвистике понятие «абстрактный предмет» активно используется в теории номинации, где говорят о способности абстрактных имен обозначать "абстрактные предметы" и рассматривают номинативные свойства существительного как части речи, поскольку изменение номинации связывается в теории номинации с частеречными переходами. Так, например, Е.С.Кубрякова пишет:"... для каждой части речи и в каждом конкретном языке существует определенный диапазон формально выражаемых значений и ...новые названия возникают, как правило, по готовым образцам и подстраиваются под одну из имеющихся семантических рубрик или этикеток" (Кубрякова 1977, 95). И в другом месте той же работы: "Номинативные функции отдельных частей речи проявляются... прежде всего, в том, что они формируют новые названия по своему образу и подобию. Они сами оказываются теми координатами в классификационной схеме, которые устанавливают место нового названия в сложившейся системе" (Кубрякова 1977,21).
Смыслообразующие стратегии лексики немецкой философии
Задача настоящего раздела заключается в демонстрации способов "работы" со смыслом, которые свойственны немецкой философской лингвокультуре. Для решения поставленной задачи мы, помимо теоретического обсуждения проблемы, обратимся к философским интерпретациям, поскольку лингвисту невозможно показать «движение» философских смыслов иным способом. Безусловно, мы можем говорить лишь только о некоторых тенденциях, поскольку выявление смыслообразующих стратегий в рамках немецкой философской лингвокультуры в целом - это тема самостоятельного большого исследования.
Различение смысла и значения, как известно, восходит к логико У семантическим представлениям Г. Фреге, который рассуждал следующим образом: "Имена" 22 = 4 и 3 2 имеют одно истинностное значение, которое будем называть истиной. "Имена" 32 = 4 и 1 2 имеют также одинаковое истинностное значение, которое будем называть ложным. "Имена" 22 и 2 + 2 имеют разные смыслы, равным образом не имеют одного и того же смысла следующие математические выражения: 22 = 4 и 2 + 2 = 4 . Таким образом "имя" выражает (druckt aus) свой "смысл" (Sinn) и обозначает (bedeutet) свое значение (Bedeutung) (Frege 1986, 35). Заметим, что не во многих языках имеются отдельные слова для обозначения самостоятельных понятий значение и смысл . В европейских языках наиболее четко смысл и значение разведены лексически в русском и немецком языках, ср. смысл , Sinn n значение , Bedeutung . Тогда как, например, в английском и французском такого четкого различения нет, ср.: смысл - meaning, reference, denotation (англ.); sense (фр.); значение - meaning, sense (англ.); signification, sense, acception (фр.).
В современных семиотических и лингвистических школах толкование этих понятий расходится в значительной степени, однако для общей семантики различение смысла и значения принципиально важно. Определим значение по Э. Косериу как "...содержание, создающееся в конкретном языке ... на основе существующих в нем оппозиций как в грамматическом строе, так и в словарном составе" (Косериу 1989, 15).
Значения конкретной языковой единицы в любом языке обычно могут быть достаточно четко определены. В то же время смысл не является принадлежностью собственно языковой единицы, а создается в ином пространстве. Выше, обсуждая специфическую природу лексики немецкой философии, мы попытались дать детальную интерпретацию смыслов, стоящих за основным концептом Хайдеггера - Dasein. Смысловая природа Dasein обсуждается А.Ахутиным: «Слово Dasein не именует, не определяет ни человека, ни мир, ни бытие, но только источник их возможности, их начинающее отношение, их "еще не". В нем все возможные толкования, понятия и идеи редуцированы к их собственному началу, к их возможности, к их ничто... Можно сказать, поэтому, что Хайдеггер в самом слове Dasein обращает внимание не на какой-то особый (особо ему близкий или нужный) смысл, а на саму его внутреннюю форму, причем пустую форму, форму смысловой пустоты, — форму, не несущую этимологически-первичный смысл, а лишь задающую условия возможного наполнения смыслом. Dasein Хайдеггера не человек, не мир, не бытиё, не существование, не наличное бытие... Оно знаменует собой последний след феноменологической редукции к началу начал, к началу всего (сущего в целом), которое не есть ничто из сущего, есть ничто. Место это (Da) может вместить бытие (Sein), поскольку всегда уже вмещает ничто (das Nichts) (Ахутин 2000,121).
Задача выявить тенденции в смыслообразовании не является простой, поскольку смыслы не имеют объектного и предметного референтов. Выявление смысла философского концепта осуществляется посредством интерпретации. Определим интерпретацию по П. Рикёру: "Интерпретация... это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении" (Рикёр 1995, 18). Философские концепты, один раз возникнув в философском мышлении одного из философов, затем могут многократно истолковываются философами. Основная смыслообразовательная тенденция философских концептов заключается в возможно более детальной интерпретации смысла концепта.