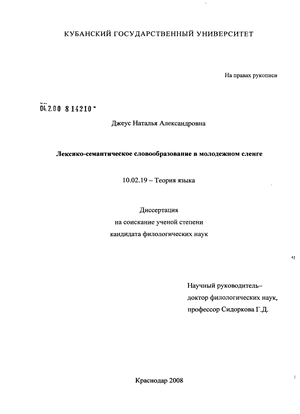Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1 Молодежный сленг: языковая специфика и функционально-бытийный статус 13
Выводы по первой главе 31
ГЛАВА 2 Молодежная субкультура как игровой феномен 34
2.1 Молодежный сленг как языковая игра 34
2.2 Игровое словотворчество в молодежном сленге 45
2.2.1 Игровые приемы и их связь со словообразованием 45
Выводы по второй главе 76
ГЛАВА 3 Лексико-семантическое словообразование в молодежном сленге: некаламбурные формы 79
3.1 Мотивированное словообразование в молодежном сленге 81
3.1.1 Концепции метафоры в современной лингвистике 81
3.1.2 Метафорическое словообразование в молодежном сленге 86
3.2 Немотивированное семантическое словообразование в сленге 98
3.3 Специфические черты семантического словообразования в сленге 107
Выводы по третьей главе 116
ГЛАВА 4 Архаизмы в молодежном жаргоне 124
4.1 Антропонимы, обозначения людей, их физических и внутренних качеств , 128
4.2 Лексемы, связанные с движением, и производные от них 129
4.3 Лексемы, связанные с процессами психической деятельности. 131
4.4 Сленгизмы со значением «бить, избивать, убивать» 133
4.5 Сленгизмы со значением «утомлять», «докучать», «изводить». 134
4.6 Лексемы со значением «красть», «воровать» 136
4.7 Лексемы со значением «говорить, сказать, произносить» 137
4.8 Лексемы, связанные со значениями «бояться», «робеть»,
«испытывать негативное состояние», «пугать» 138
4.9 Лексемы со значением «выпить спиртного, пьянствовать 141
4.10 Лексемы со значением «(усердно) работать, делать что-либо» 143
4.11 Лексемы со значением «проявлять характер, агрессию», «вести себя вызывающе», «подводить, обманывать кого-либо» 143
4.12 Оценочные архаические лексемы в жаргоне 144
Выводы по четвертой главе 146
Заключение 148
Библиографический список 159
- Молодежный сленг как языковая игра
- Игровое словотворчество в молодежном сленге
- Мотивированное словообразование в молодежном сленге
- Антропонимы, обозначения людей, их физических и внутренних качеств
Введение к работе
Долгое время в российском языкознании исследование жаргонных субъязыков было практически под запретом: господствовало представление, что все, достойное изучения, представлено в литературном языке, в то время как жаргонизмы лишь искажают и позорят русский язык. В настоящее время ситуация изменилась, и наблюдается своеобразный «жаргонологический бум» (В.М.Мокиенко), в результате которого в этой области устранены многие лакуны, прежде всего касающиеся сбора и лексикографической систематизации соответствующего материала. Здесь можно отметить хотя бы словари Д.С.Балдаева, В.К.Белко и И.М.Юсупова (1992), В.Б.Быкова (1992; 1994), Ж.Росси (1987; 1991), В.С.Елистратова (1994), И.Юганова и Ф.Югановой (1994), С.И.Левиковой (2003), Т.Г.Никитиной (2004), Х.Вальтер, В.М.Мокиенко и Т.Г.Никитиной (2005); эти и другие словарные издания дают достаточно полное представление о русском жаргоне.
Но обращение лингвистов к жаргону представляет интерес и научную ценность не только в плане знакомства лингвистической общественности с этим долгое время замалчиваемым и табуированным пластом языковой реальности. Обращение к жаргону и просторечию как к наиболее живым и динамическим формам языкового существования позволяет по-новому осветить и истолковать многие явления языка, связанные, прежде всего, с его социальными, функциональными и историческими аспектами.
Язык в своем реальном существовании есть единство порядка и хаоса, и именно это обеспечивает его гармоничность и жизнеспособность. Действие факторов, вносящих «беспорядок» в динамическую систему, необходимо для поддержания ее относительного равновесия. Одним из таких «беспокоящих»
факторов как раз и является молодежный жаргон (сленг). Не испытывающий на себе жесткого давления языковой нормы, «выпущенный на свободу», он позволяет себе экспериментировать с языком, постоянно что-то изобретая и апробируя его выразительные возможности. В этом смысле молодежный жаргон можно уподобить испытательному полигону или лаборатории, в которой языку предоставляется возможность беспрепятственного развития и реализации своих внутренних резервов и тенденций. Удачными или нет будут результаты экспериментов - это уже другой вопрос - проникая через просторечие или творчество писателей в широкую языковую среду, рожденные в жаргоне инновации либо будут отвергнуты и забыты, либо окажутся востребованными и обретут законное право на существование в качестве единиц национального языка.
Обращение к исследованию жаргонов открывает широкие перспективы в изучении социальных детерминант языкового существования — почему в рамках одного национального языка появляются другие, отпочковавшиеся и выросшие из него и в то же время отличающиеся от него по ряду важных параметров, какие социально-психологические мотивы служат движущей силой такой дифференциации?
В отличие от профессиональных жаргонов или арго криминальных элементов, молодежный сленг не имеет явной утилитарной направленности и не дает своим пользователям каких-либо преимуществ в плане конкуренции с остальным миром.
Молодежный сленг представляет собой языковую игру в относительно
чистом виде, ибо одним из главных условий квалификации некоего феномена
в качестве игры как раз и является отсутствие практической целеустановки —
игра самоценна и заключает свой смысл, прежде всего, в самой себе, а не где-
то снаружи (Й.ёга). Этим, разумеется, не утверждается, что пользование молодежным сленгом не имеет смысла для его носителей — за счет этого они самоутверждаются, выражают свою причастность к молодежной субкультуре, противопоставляют себя миру взрослых и респектабельных членов социума. Однако эти установки сами по себе являются игровыми по сути и не равнозначны утилитарным целям профессиональных или криминальных жаргонов, детерминированных соображениями эффективности производственного процесса, делового взаимопонимания или конспирации.
Динамика существования и развития молодежного сленга в первую очередь проявляется в процессах словотворчества и создания неологизмов. Исключая случаи заимствования из других языков, жаргон при создании новых слов опирается, прежде всего, на лексическую систему общенационального языка, здесь в целом обнаруживаются те же морфологического и семантического словообразования, что и языке-доноре. При образовании новых слов посредством семантического переноса (метафоры, метонимии, синекдохи) исходным материалом выступают, как правило, лексические единицы русского литературного языка, так что вновь образуемые слова оказываются мотивированными и при соответствующем контексте обычно понятными для обычных носителей русского языка
В то же время в молодежном сленге не менее значима и противоположная тенденция - отмежевание от общепринятых языковых форм, их искажение и переиначивание. Тенденция говорить по своему, «не как все», ведет не только к постоянному пополнению лексики новыми («свежими») словечками, но и к разрушению фонетических, грамматических, стилистических и словообразовательных норм и правил.
Таким образом, молодежный сленг «балансирует» между тенденциями сделать себя понятным для обычных русскоговорящих и одновременно оставаться не вполне доступным для непосвященных; на собственно лексическом уровне указанная интенциональная двойственность сленга проявляется в процессах мотивированного словообразования, с одной стороны, и немотивированного, с другой стороны. Исследованию этой двойственной природы молодежного сленга в первую очередь и посвящена настоящая диссертация.
Актуальность исследования обусловлена живым интересом лингвистической общественности к проблемам маргинальных коммуникативных кодов (жаргону, молодежному сленгу и т.д.) - явлению, долгое время замалчиваемому и требующему усиленного внимания к себе.
Объектом исследования являются лексические (отчасти, фразеологические) единицы, зафиксированные в словарях молодежного сленга.
Предметом исследования выступают способы лексико-семантического словообразования в молодежном сленге.
Источниками фактического языкового материала являются различные лексикографические работы — словари молодежного сленга и других субъязыков (см. библиографию); в общей сложности анализ проводится с использованием 1356 лексических единиц; в работе используются текстовые фрагменты из художественной и публицистической литературы, иллюстрирующие функционирование сленгизмов.
Основная цель исследования заключается в том, чтобы выявить и описать особенности лексико-семантического словообразования в сленге и идентифицировать их функциональную значимость в контексте специфики такого феномена языковой действительности, как молодежный сленг.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
рассмотреть характерные черты маргинальных кодов общения, разновидностью которых является молодежный сленг;
проанализировать социо-психологические предпосылки и причины возникновения молодежной субкультуры как социальной организации;
изучить общеязыковые механизмы лексико-семантического словообразования;
выявить специфические характеристики лексико-семантического словообразования в молодежном сленге и сопоставить их с таковыми в русском литературном языке;
проанализировать, как специфика словотворчества в молодежном сленге коррелирует с функциональными установками молодежной субкультуры и ее коммуникативного кода.
Методологической базой исследования служат работы отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области лексикологии, лексикографии, социолингвистики и философии языка, в числе которых хотелось бы выделить В.Д.Бондалетова, В.Б.Быкова, В.Н.Волошинова, Б.М.Гаспарова, М.А.Грачева, В.Г.Костомарова, Е.С.Кубрякову, Б.А.Ларина, Л.Леви-Брюля, Д.С.Лихачева, НЛ.Марра, В.М.Мокиенко, Г.П.Немца, Т.Г.Никитину, Е.Д.Поливанова, Э.Сепира, Ю.С.Степанова, Й.Хейзинги и др.
Научная новизна диссертации обусловлена тем, что несмотря на появившееся в последнее время значительное количество исследований, посвященных жаргонной речи и молодежному сленгу, многие относящиеся к данной тематике проблемы нуждаются в дальнейшей разработке; это, в частности, относится к явлениям спонтанного словотворчества в условиях ненор-
мируемого словоупотребления, что исключительно ярко проявляется в молодежном сленге. Этим явлениям главным образом и посвящена настоящая диссертация.
Теоретическая значимость работы заключается, прежде всего, в выявлении специфических особенностей словообразовательных процессов в молодежном сленге, существенно отличающихся от основных моделей лексико-семантического словообразования в русском литературном языке.
Положения, выносимые на защиту:
Жаргонную речь неправомерно рассматривать как однозначно негативное явление, засоряющее и «портящее» национальный язык. Жаргон являет собой дестабилизирующее начало, необходимое для гармоничного существования динамической системы, каковой является язык. Особенно продуктивным в плане языковых инноваций является молодежный жаргон (сленг), чутко реагирующий на изменения в жизни социума и обнаруживающий тенденцию к постоянному обновлению своих коммуникативных кодов. Он представляет собой своеобразную лабораторию, относительно свободно иллюстрирующую возможности и тенденции языка, которые не могут реализоваться в его нормированном и регламентированном варианте.
Жаргон как одна из форм существования национального языка не может существовать самостоятельно не только в силу своей лексико-семантической «избирательности», ограниченности определенными социальными и бытийными сферами жизнедеятельности, но и в силу того, что является «тенью» литературного языка, отталкиваясь от него при создании своих собственных коммуникативных единиц. Например, при метафорическом словообразовании за основу, как правило, берется какое-то слово лите-
ратурного языка, а его метафорическое переосмысление выступает уже как элемент жаргона (ср. выхлоп «перегар», перо «нож»).
Молодежный сленг изначально представляет собой форму языковой игры, ибо он предназначен не столько для удовлетворения коммуникативных потребностей, сколько для самовыражения, самоидентификации и отмежевания от «чужих», в силу чего сама языковая форма имеет целевую установку привлечь внимание партнеров по коммуникации. Это стимулирует потребность в новаторстве, оригинальности, в языковой игре в более узком понимании как способе образования лексических и фразеологических неологизмов. В связи с этим игровое словотворчество играет в молодежном сленге несравненно более значимую роль, чем в литературном языке.
Молодежный сленг «балансирует» между тенденциями отмежеваться от обычного языка социума и в то же время полностью не утратить связь с ним. Это проявляется не только в наличии в сленге, с одной стороны, общепонятных языковых элементов и, с другой стороны, только ему свойственных сленгизмов, но и в самих приемах словотворчества, где наряду с обычными способами семантического словообразования и переноса значения обнаруживается множество странных и причудливых семантических сближений, порой кажущихся совершенно алогичными (слова с «парадоксальной внутренней формой»); значительную роль играют маргинальные семантические ассоциации, симбиоз семантического, морфологического и фонетического сходства слов, явления энантиосемии, синэстезии и т.д.
Двойственная природа молодежного сленга - культивирование собственной исключительности и единение с общенациональными корнями -проявляется в исторической неоднородности его лексического состава. Наряду с многочисленными неологизмами, иностранными заимствованиями,
формами игрового словотворчества в нем обнаруживается значительное количество архаической лексики, образующей как бы его «основной словарный фонд» и являющейся общей базой для разных видов маргинальной речи. Это позволяет постулировать существование некоего «общенационального жаргона», по отношению к которому такие формы, как молодежный сленг, воровское арго, просторечие, выступают в качестве вариантов.
В диссертационной работе использовались следующие методы: компонентный, дистрибутивный, а также элементы трансформационного и статистического анализа.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на заседании кафедры немецкой филологии Кубанского государственного университета. Результаты исследования были представлены на различных межрегиональных межвузовских научных конференциях: «Лин-гводидактические проблемы преподавания иностранных языков в школе и вузе» (Краснодар, 2006); «Современная лингвистика: теория и практика» (Краснодар, 2006), «Инновационные процессы в высшей школе» (Краснодар, 2006).
По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в том числе три работы в центральной печати.
Практическая значимость заключается в том, что результаты и материалы исследования могут быть использованы для разработки лекционных курсов, а также спецкурсов и спецсеминаров по проблемам теории языка, социолингвистики, теории языковой игры и др.
Структура диссертации обусловлена целью и поставленными задачами. Работа состоит из Введения, четырех исследовательских глав, Заключения, Библиографического списка.
В первой главе рассматриваются общие положения, связанные с феноменом жаргона как функционального ответвления национального языка, с вопросами его внутреннего устройства и функциональной специфики; история изучения жаргонных субъязыков в отечественной и зарубежной лингвистике и обосновывается статус понятия молодежного сленга относительно других жаргонных форм и общенационального языка.
Во второй главе рассматривается собственно молодежная субкультура с ее основной формой проявления — молодежным сленгом. Как в молодежной субкультуре в целом, так и в ее вербальной репрезентации в форме сленга явственно представлено игровое начало: в вербальном аспекте это манифестируется языковой игрой и, в частности, игровым словотворчеством, которое занимает значительною место в лексической системе молодежного сленга. Как в лексической системе сленга в целом, в игровом словотворчестве выделяются аспекты семантически мотивированного и немотивированного словообразования.
В третьей главе рассматриваются формы мотивированного и немотивированного словообразования в сленге на основе семантического переноса в его традиционном понимании (метафора, метонимия, синекдоха), а также специфические для молодежного сленга словообразовательные процессы. Рассматриваются предпосылки широкого распространения немотивированного словообразования в сленге, а также основные модели типового соответствия значений многозначных лексем.
В четвертой главе представлен сопоставительно-этимологический
анализ архаических лексем, употребляющихся в сленге, но непонятных с
точки зрения обычного носителя современного русского языка, Показано,
что это, как правило, устаревшие слова русского языка, вышедшие из упот-
ребления, но зафиксированные, в частности, в словаре В.И.Даля. Этот факт является одним из свидетельств того, что молодежный сленг нельзя рассматривать как исключительно новое явление, возникшее в последние десятилетия, - в своей основе он коренится в прошлом великорусского языка.
В Заключении в краткой форме излагаются основные обобщения, выводы и результаты диссертационной работы.
Молодежный сленг как языковая игра
Понятие «субкультура» получило распространение в связи с молодежными движениями 1960-1970-х гг. (Гуревич 1987; Матвеева 1987; Соколов, Осокин 1996). Этот концепт функционирует в рамках модели культуры как коммуникативной системы, включающей средства коммуникации (знаки и символы), а также определенную конфигурацию каналов коммуникации (Арутюнова 1989). Таким образом, понимание субкультуры как коммуникативной системы позволяет охватить не только знаки и символы, но и их социальный контекст, интерпретировать способы их взаимодействия (Щепан-ская 2004). Молодежная субкультура представляет собой благодатный материал для исследования игрового поведения, игровой аспект манифестирует себя в данном культурном пространстве наиболее очевидным образом - в поведенческих нормах, символике и сленге молодежного сообщества (Четыр-кина 2005).
Отметим лишь несколько значимых в молодежных субкультурах кодов, имеющих ярко выраженный перформативный характер: пространственный - уход на природу, где разыгрываются ролевые игры, на трассу (хиппи и байкеры), в подземелье (underground), путешествия по компьютерным сетям и виртуальным пространствам; предметный код - внешний вид, символика, места тусовок; наконец, вербальный код. Функционирование кодов связано с тем, что для молодежных сообществ особенно актуально маркирование границы — необходимость разделять свою и чужую информацию, создавать коммуникативный барьер. Сюда можно отнести манеру говорить, изменять привычную форму слова, употреблять архаические или нарочито архаизированные формы, сам сленг — все это маркируется уже в момент произнесения как «свое», обозначает роли и статусные позиции, оценки и стратегии, конституируя тем самым структуру общения и межличностные связи (Четырки-на 2005).
Большую роль в молодежной субкультуре играют смеховые жанры: шутки, приколы, анекдоты, дразнилки, демонстрирующие отношение к общепринятым культурным нормам и образцам, снимающие агрессию и психологическое напряжение. Смысл прикола состоит не только в том, чтобы оконфузить непосвященных, но и доставить эстетическое удовольствие понимающим слушателям. «На сленге прикольно означает не только «смешно», но и «приятно» (одобрительную оценку). «Прикалывается» — и «шутит», «обманывает», и «получает удовольствие», и «понимает»: «Прикалываешься!» Так обозначается тайная общность и весь комплекс сопутствующих переживаний. В целом функция прикола - разделение на своих и чужих, когда смех над «чужим» объединяет «своих», поддерживая общность» (Щепанская 2004. С. 102).
Границы маркируются в языке молодежной субкультуры не только на уровне текста, но и на уровне лексики. Особый интерес представляют те слова, которые помимо основного значения маркируют границы, отделяя свое от чужого, уже одно только произнесение которых может приравниваться к перформативу: «Я заявляю, что принадлежу этой группе» и конституировать соответствующий дискурс. Чаще всего это несколько измененные по форме заимствования из английского: бук — книжный магазин, герла — девушка, шу зы - обувь, крейзи — сумасшедший, пипл — народ и т.д.
В молодежном сленге имеется большое количество обозначений, относящихся к формам и оценке коммуникации, коммуникативным стратегиям, оценочным суждениям: базарить, лажа, гнать, слинять, вписаться, врубаться, въезжать, просекать, клево, кайфово, фуфло и т.д. Большая группа слов относится к области антропо- и соционимии, обозначая статусные позиции и роли: пипл, братки, герла, сестренка, панки, мажор и т.д.
Многие слова молодежного сленга могут быть поняты однозначно только в определенном дискурсе: глюк в компьютерном сленге - «странность или ошибка в работе компьютера», для хиппи - галлюцинация; ломать — «снимать защиту от копирования» и «быть неприятным, причинять страдание»; крыша — «контора» и «соображалка»; флэт - «модель памяти в программах» и «квартира, где собирается тусовка»; фэйс — может означать и лицо, и интерфэйс, и внешний вид, состояние; покоцанными могут быть и файлы, и стены и т.д. В компьютерном пространстве витают вирусы, заражают файлы, в результате чего операционная система может просто сдохнуть (Че-тыркина2005.С. 192)14.
Итак, даже краткое ознакомление с коммуникативными кодами, использующимися в молодежной субкультуре, показывает, что ряд вопросов, ранее относящихся к чистой семантике, или семиотике, уже не решается в рамках только этих дисциплин, а требует выхода за их пределы — в область социальной структуры общества, поведенческих и культурных норм и стереотипов, определяемых этнической, половой, возрастной, профессиональ ной и т.д. принадлежностью. Многие даже чисто лингвистические особенности молодежного сленга (и жаргонов вообще) невозможно объяснить, если не принимать во внимание преимущественно устный характер их функционирования, рассчитанный на непосредственное «исполнение» (перформанс) в определенных ситуативных контекстах, в обстановке особого ролевого взаимодействия и ярко выраженного игрового начала. Так, удивительная легкость семантического словообразования, не считающаяся, казалось бы, ни с какими закономерностями переноса значений и ведущая к созданию «причудливых» слов, связана, прежде всего, с функционированием жаргона в рамках ограниченной социальной среды, к тому же настроенной на игровое поведение.
Игровое словотворчество в молодежном сленге
В предшествующем разделе было показано, что молодежный сленг в целом может рассматриваться как разновидность языковой игры в широком понимании последней - как особой прагматически маркированной сферы использования языка, причем в этом плане он (сленг) выступает в числе ее наиболее образцовых представителей. В то же время молодежный сленг имеет непосредственное отношение и к языковой игре в узком понимании, предполагающем специальное манипулирование собственно языковыми средствами в целях создания определенного эффекта (смехового, концептуального, обличительного и др.). Реализация этих эффектов осуществляется прежде всего посредством игры слов, хотя, как уже было сказано, данный феномен неоднозначен по реестру включающих в себя приемов и понимается по-разному отдельными авторами. (Неясно, к примеру, относится ли к игре слов пародийное цитирование чьих-то слов в таком контексте, где они приобретают аб сурдное звучание, хотя это, несомненно, явный прием языковой игры в узком понимании, т.е. осуществляемой посредством внутренних ресурсов языка? Или: относится ли к игре слов окказиональная, непривычная метафора?). С другой стороны, можно выделить ряд приемов, которые однозначно будут отнесены к игре слов самыми разными исследователями: они как бы формируют ядро этого несколько диффузного понятия. В наиболее явном виде она представлена в каламбурном обыгрывании слов или фраз, когда в последних реализуются дополнительные смысловые потенции на основе полисемии, звукового сходства, актуализации этимологической формы и т.п.
В самом общем представлении можно сказать, что игра слов базируется на асимметрии единиц плана выражения и плана содержания: одному знаку может соответствовать несколько означаемых (омонимия, полисемия), а одному означаемому — несколько знаков (синонимия); могут наблюдаться и более сложные отношения, например, паронимия, когда частичное подобие знаков в плане формы коррелирует с частичным подобием в плане содержания. Ниже мы рассмотрим наиболее характерные приемы языковой игры; поскольку функции и эффекты последней лучше всего демонстрируются в контекстах, в качестве иллюстраций используются, главным образом, «лингвистические» анекдоты (или из краткие репрезентации - каламбуры). Анекдоты ценны в этом плане также тем, что они обнаруживают тесную связь с жаргонным и просторечным словотворчеством.
1. Игра слов, строящаяся на лексической полисемии или омонимии.
Механизм действия этого приема базируется на возможности различной интерпретации многозначного слова или омонима. При этом может возникать ряд эффектов юмористического характера, проистекающих из оппозиции значений: альтернативная интерпретация слова в соответствующем контексте резко меняет общий смысл ситуации или приводит к абсурду. Наиболее характерные феномены такого рода: создание пикантного («об-сценного») эффекта, негативные или комичные инсинуации относительно власти, государственных органов, тех или иных этнических групп, профани-зация идеологических концептов и др. Так, эффект десакрализации идеоло-гемы можно наблюдать на примере следующего анекдота: Трудящийся ждет открытия винного отдела, подбрасывает и ловит юбилейный рубль с Лениным и приговаривает: — У меня не в Мавзолее — не залежишься!
Следует заметить, что эффект обыгрывания значений многозначного слова почти не используется в игровом словотворчестве, поскольку для его реализации необходим особый контекст, в рамках которого его разные значения вступают во взаимодействие, — отдельно взятое слово не располагает такими возможностями. С другой стороны, всякое слово, употребляющееся в переносном смысле, ассоциируется с двумя или более означаемыми и может нести в себе след языковой игры, сопутствующей моменту первичного употребления этого слова в качестве метафоры (ср.: толкать в значении «продавать», выгореть - значении «получиться»). Как живая языковая игра могут восприниматься многие окказиональные метафоры (напр., воздыхатель — «токсикоман», бройлер — «подросток-акселерат»), но лишь до тех пор, пока метафорическое значение не станет для данного слова узуальным (если, конечно, такое вообще случится).
Мотивированное словообразование в молодежном сленге
Когда речь идет о мотивированном словообразовании, то прежде всего имеются в виду приемы семантического переноса, включающего в себя метафору, метонимию и синекдоху (нередко метафору понимают в расширительном смысле, включая в нее все три указанных вида тропов). Поскольку метафора играет заметную роль в сленговом словообразовании, следует рассмотреть как представлено это понятие в современном языкознании.
В современной науке метафора изображается как сложное явление, рассматривающееся с лингвистической, психологической или когнитивной сторон, которые представляют традиции различных научных школ и направлений. Каждое теоретическое направление располагает собственным пониманием сущности метафоры и её функций, имеет свои методики изучения метафорических проекций, создает собственную классификацию.
Так, достаточно авторитетная теория семантического взаимодействия связывает метафору с вербальной оппозицией или взаимодействием двух семантических смыслов: метафорически употребленного выражения и окружающего буквального контекста. Концепция метафоры А.А.Ричардса основывается на психолингвистическом осмыслении данного языкового явления: автор метафорической проекции оперирует двумя взаимодействующими сущностями, означающими различные отрезки действительности. При этом мысли об этих сущностях у человека возникают одновременно, так как они вызваны у него какими-то ассоциациями и выражаются с помощью единого словесного комплекса, значение которого в данном контексте является производным от осмысления взаимодействия сравниваемых. Концепция М.Блэка основывается на теорию референции и состоит в понимании процесса образования метафоры как особой разновидности семантической конвергенции, обусловленной позицией контекста. Новое понятие создается на основе синтеза двух гетерогенных сущностей и сопутствующего им ассоциативно-образного комплекса и устанавливается как способ представления объекта действительности в новом наименовании. Если, согласно Ричардсу, метафора - это взаимодействие мыслей, то по Блэку она представляет собой взаимодействие объектов. Однако, как отмечают некоторые исследователи (Петров 1988; Жоль 1984; Телия 1988), эти подходы не учитывают прагматического аспекта оценки, антропоцентричности ассоциативных связей, функции языковой метафоры.
Последние десятилетия в русле структурно-семантического описания языка отечественные лингвисты разрабатывают теорию регулярной многозначности (Апресян 1971; Шмелёв 1964; Стернин 1985; Чудинов 2001 и др.). Данная теория опирается на исследования параллельных семантических процессов в истории языка (Балли 1961; Вандриес 1937; Вундт 1900; Бреаль 1954; Потебня 1922 и др.). Большую роль в создании изучаемой теории сыграли исследования по системности лексики, в результате которых были выявлены многочисленные факты однотипности вторичных значений (Ульманн 1990; Уфимцева 1974; Шмелёв 1964 и др.). В рамках этого подхода изучается продуктивность метафорических переносов, определяется состав ведущих моделей многозначности в русском языке (Чудинов 2001). Рассматриваемое направление во многом базируется на идеях А.Н.Веселовского, который исследовал истоки «вековых метафор» (Веселовский 1989).
В настоящее время разрабатывается также когнитивная теория метафоры, базирующуюся на исследованиях концептуальной метафоры Дж.Лакоф фа и М.Джонсона (Лакофф, Джонсон 1990). Когнитивным исследованием метафоры занимается целый ряд ученых (Баранов 1991; 2003; Кубрякова 1995; Рахилина 1997;. Скребцова 2000 и др.). В основе данной теории лежит понятие о метафоризации как взаимодействии двух структур знаний - когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели». Некоторые области цели в процессе метафоризации подвергаются структурированию по образцу источника, т.е. происходит «метафорическая проекция». Предположение о повторении структуры источника в структуре цели носит название «гипотезы инвариантости» (Lakoff 1980. С. 54). Например, метафора народ, общество (цель) - это стадо (источник) привлекает внимание адресата к идее «несамостоятельности, пассивности», которая является частью когнитивной структуры (фрейма) «стада»: имеющиеся знания о мире сообщают нам, что стадо животных (например, коров - как прототипический вариант для европейской культуры) управляется пастухом (Баранов 2003. С. 75). Дж.Лакофф считает, что «метафора позволяет нам понимать довольно абстрактные или по природе своей неструктурированные сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей» (Лакофф 1996).
Устойчивые корреляции между сферой источника и сферой цели, отмеченные в языковой и культурной традиции определенного общества, носят название «концептуальных (базовых) метафор». В европейской культуре, например, можно выделить следующие концептуальные метафоры: Время — это Деньги, Спор — это Война, Жизнь — это Путешествие и др. (Лакофф, Джонсон 1990).
Еще Ш.Балли различал метафоры по степени их внедренности в сознание: конкретно-чувственная, ослабленная и мертвая метафоры; две первые разновидности являются живыми, последняя - застывшей. Первая определяется яркой образностью, четким осознанием связи между двумя гетерогенными сущностями, чему способствует и позиция в контексте; разновидность второй «ослаблена» частотностью употребления, «традиционностью» семантической модели, частичной утратой ассоциативно- образного основания связи между объектами, и, наконец, мертвая метафора характеризуется полной утратой, забвением между объектами. (Потапова, Потапов 2004).
Н.Д.Арутюнова классифицирует метафоры по их коммуникативно-функциональным свойствам (Арутюнова 1979). В.Н.Телия предлагает функционально-номинативную классификацию, которая базируется на сведениях о соотношении в метафоре целеполагающего замысла ее творца и отображения в соответствии с ним действительности. С учетом этого фактора выделяются метафоры идентифицирующая (индикативная), концептуальная и оценочная. Для идентифицирующей метафоры характерно сходство ее обозначаемого и того образа, который становится внутренней формой метафорического значения. Концептуальная метафора способствует формированию абстрактного значения. Оценочная метафора вынуждена избавиться от психологического напряжения, чтобы не отвлекать внимание реципиента на мотивирующий образ, являющийся несущественным для истинного основания оценки (Телия 1988).
Антропонимы, обозначения людей, их физических и внутренних качеств
Пендюк (в сленге «заносчивый, чванливый человек»); в словаре В.Даля есть слова пендюх(к) — брюхо, пузо; болван, пентюшиться — чваниться, ломаться. Мотивированность данного сленгизма, на наш взгляд, не вызывает сомнений.
Чувак (парень, молодой человек); в указанном словаре: чуваша, чу вахлай - неотесанный, неопрятный человек; отсюда же, по-видимому, сленгизм чувырла - глупая, неприятная девушка.
Шушера (собирательно: шпана, сброд; уличный хулиган, девушка); у В.И.Даля: всякая дрянь, ветхие пожитки, дрянный люд. В сленге есть также шушеритъ - воровать, шухерить - хулиганить, шушара — мелкий воришка, шушарить - убегать; все они, по-видимому, от того же источника. Ханыга (пьяница, торговец наркотиками); у В.И.Даля: попрошайка, канюка (от канючить). Жиган (вор, мошенник); у В.И.Даля: пройдоха, плут (от глагола жечь). Свиря (гнусный, недостойный человек); по-видимому, от глагола свирать - сваливать свою вину на другого. Вебель (плохой человек) может происходить от зафиксированного В.И.Далем слова веблща — «червь, вызывающий болезнь». Балда (голова; глупец, тупица; наркотики); по В.И.Далю это слово исконно означает «шишка», «набалдашник». Колобаха, колобетка (девушка, женщина); у В.И.Даля есть колобуха — толстая лепешка (ср.: колобок). Перенос значения аналогичен таковому в сленгизмах булка, ватрушка - девушка.
Чмо (никчемный, ничтожный человек); возможно, от глагола чма-рить - чахнуть, зачмаритъ — одуреть, угорать (в сленге есть ряд паронимич-ных слов зачморитъ, зачмурить, зачмырить, зачмаритъ, в семантике которых доминируют значения «унижать», «обижать», «замучить, извести». Встречающееся толкование происхождения чмо как аббревиатуры от «чрезвычайно мудрая особа» является, скорее всего, ироническим обыгрыванием уже существовавшего слова. То же самое можно сказать о толковании слова гопник (хулиган, агрессивный молодой человек, уличный грабитель) как представителя ГОПа («городского общества паразитов» или «городского отдела призрения»). По нашему мнению, это слово связано с устаревшим глаголом гопать (топать, прыгать, выскакивать; ср.: гопак) и выкриком гоп (или гоп-стоп), с которым грабители накидывались на своих жертв.
В жаргонной лексике существует ряд слов, производных от глагола дыбать (воровать), исконное значение которого можно передать как «шляться, слоняться без дела»: кандыбатъ, кандёхатъ {покандёхатъ), шкандыбать, шкандыбаритъ; видимо, от последнего в современном сленге появился глагол шландыбарить, а также шлындать (в значении «идти»; в словаре Даля зафиксированы шлендитъ, шляндить с тем же значением, видимо, возникшие по аналогии с глаголом шляться). Глаголы этого ряда сейчас воспринимаются как варианты одного и того же слова, но исторически некоторые из них выступали, по-видимому, как паронимы (частичное совпадение формы при частичном тождестве значения): так, слово шкандыбать толкуется у Даля как «идти пошатываясь». В современном сленге отмечается глагол швендять (еле идти, плестись), который также можно расценивать как парони-мичный по отношению к шлендитъ, шпяндатъ (идти, шляться). В словаре Даля приводятся также лексемы ухондакать, ухайдакатъ со значениями «уйти», «истратить», «доконать», «убить» — они же употребляются в современном просторечии в форме ухайдохатъ и несомненно связаны с кандыбать, кандёхатъ.
Хилять (основное значение «идти, гулять, прохаживаться»). У Даля хилить — гнуть, изгибать, видимо, отсюда «двигаться неровно, волною». В современном жаргоне отмечаются также глаголы хрять и ухрятъ (уходить, двигаться), которые Даль возводит к хилять — «двигаться», «переваливаться» (очевидно, что глаголы хилить и хилять родственны между собой). Любопытно, что в сленге зафиксировано слово нахлитъ (обнаружить, найти), которое, по-видимому, производно от хилить (ср.: литературное на-ходить) Слово чапать (идти, шагать) у В.И.Даля толкуется как «покачивать», так что его деривационная история вполне аналогична таковой у глагола хилять Вариантом слова хилять выступало слово халятъ (еле двигаться), от которого, по всей видимости, происходит слово халява — «нечто желаемое, не требующее больших усилий или затрат» (у В.И.Даля это слово, в частности, трактуется, как «неряха, вялый, ленивый человек».