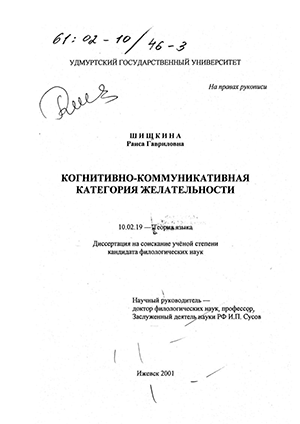Содержание к диссертации
Введение
Глава пеовая. Модальность высказывания в логическом и лингвистическом аспектах 23
Понятие модальности в философии и логике 23
От глагольных наклонений к модальностям высказываний 27
Логико-лингвистические подходы к модальности 42
Полевой подход к описанию модального плана высказываний 55
Модальность и модус 62
Выводы по первой главе 73
Глава вторая. Структуры высказываний, реализующих когнитивно-коммуникативную категорию желательности 75
Семантико-прагматическое представление высказываний желания 75
Высказывания с эксплицитным дезидеративным модусом 80
Высказывания с диктальными глаголами в желательном наклонении (оптативе) 105
Высказывания с диктальными глаголами в сослагательном и условном наклонениях (конъюнктиве и кондиционале) 125
Неморфологические способы выражения значений желательности 135
Выводы по второй главе 145
Заключение 148
Использованная литература 150
- От глагольных наклонений к модальностям высказываний
- Полевой подход к описанию модального плана высказываний
- Высказывания с эксплицитным дезидеративным модусом
- Высказывания с диктальными глаголами в сослагательном и условном наклонениях (конъюнктиве и кондиционале)
Введение к работе
Данная диссертация посвящена анализу на материале ряда языков когнитивно-коммуникативной категории желательности и, соответственно, высказываний, выражающих значение желания, например:
Я хочу, чтобы моя группа успешно сдала экзамен по теоретической лингвистике; (Я) хочу разобраться в проблеме модальности = (Я) хотел(а) бы разобраться в проблеме модальности = (Мне) хочется разобраться в проблеме модальности = (Мне) хотелось бы разобраться в проблеме модальности = Разобраться бы в проблеме модальности]; '— Мне бы стакан чая; — О, если бы я жил в то время]; *- Пускай увижу милый взор, / Пускай услышу голос милый. (А. Пушкин) — И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть/ И равнодуш ная природа / Красою вечною сиять. (А. Пушкин) * Да будут ясны дни твои, / Как милый взор твой ясен. / Меж лучших жребиев земли /Да будет жребий твой прекрасен. (А. Пушкин)
Такие высказывания, часто называемые оптативными (или дезидера-тивными), реализуют формулу Хочу (чтобы) р. Здесь р означает пропозициональное содержание высказывания, иначе говоря пропозицию, соотносимую с желаемым положением дел (дезидератом), а предикатные слова типа хочу, желаю выступают в роли модальных операторов желательности, образуя (вместе с субъектом желания, идентичным субъекту речи) своего рода рамку для передаваемого содержания (дезидерата); ср.:
ХОЧУ (я, р) {разобраться в (я, проблема модальности)). Я хочу разобраться в проблеме модальности.
ЖЕЛАЮ (я, ты, р) {сдавать {ты, экзамен)). Я желаю тебе сдать экзамен.
Проблема высказываний со значением желания (нем. Wunschsatze, англ. desire utterances) в общем-то никогда не оставалась вне внимания языковедов. Но в подавляющем большинстве случаев имеющиеся описания (как правило, в рамках нормативных и теоретических грамматик языков флективного и агглютинативного строя) касаются не столько высказываний желания, сколько способов образования глагольных форм наклонений, прежде всего синтетических форм желательного наклонения (оптатива) в тех языках, где он выделяется, а также синтетических форм сослагательного наклонения (конъюнктива, или субъюнктива) и условного наклонения (кондиционала) в других языках, где они в числе своих функций имеют выражение значения желания.
Наиболее благодатный материал для подобных наблюдений предоставляют такие языки, как санскрит (Барроу 1976), древнегреческий (Соболевский 1948), латинский (Боровский и Болдырев 1949), а также древне-германские языки: готский (Гухман 1958; Braune 1952), древнеисландский (Стеблин-Каменский 1955), древнеанглийский (Смирницкий 1955), древневерхненемецкий (Зиндер и Строева 1968; Braune 1955) и др., где имеются особые формы желательного наклонения. На страницах Интернета многие десятки файлов посвящены древнегреческому оптативу. С морфологических позиций желательное наклонение (или же наклонение, одной из основных функций которого является выражение желания) описывается во многих очерках, помещённых в пятитомном труде «Языки народов СССР»(М., 1966—1968).
В сферу внимания часто попадают, кроме синтетических форм, также описательные способы выражения значения желания, особенно в тех случаях, когда соответствующие конструкции включаются в присущую данному языку систему грамматических противопоставлений синтетическим формам и приобретают статус аналитических форм.
По существу своему, однако, морфологическая направленность таких исследований поневоле оставляет в тени неморфологические способы выражения оптативных значений. Ясно, что полученные результаты не могут быть приложены к языкам, в которых отсутствует глагольное словоизменение, но носители которых, тем не менее, могут выразить те или иные оттенки значения желания. К тому же, в языках, обладающих развитой системой глагольного формообразования, нередко в качестве показателей значения желания используются разнообразные средства, которые не включаются в парадигму словоизменения глагола по наклонениям.
Исключительно редко материалом исследований оказываются лексические единицы, особенно предикатные слова со значением желания, которые интересны уже тем, что они способны образовать модальную рамку высказываний и открыть (в силу своих валентностных свойств) позицию для сообщения о желаемом положении дел (дезидерате).
Следовательно, необходим более широкий подход, позволяющий рассматривать всю совокупность языковых средств (как морфологических, так и синтаксических, а также лексических и интонационных), которые могут обеспечивать формирование оптативных высказываний. В определённой степени концептуальный и методологический аппарат для таких исследований предоставляет теория функционально-семантических полей, развиваемая в большом ряде работ по функциональной грамматике, которые выполняются петербургским учёным А.В. Бондарко вместе со своими коллегами (Бондарко 1971; Бондарко 1976; Бондарко 1978; Бондарко 1984; Бондарко 1987; Бондарко 1990а).
В данной диссертации предлагается, однако, говорить о когнитивно-коммуникативных полях (или категориях), поскольку группирующиеся внутри каждого из таких полей языковые средства затрагивают и познавательные по своему характеру отношения между высказываниями и фрагментами действительного мира (или одного из возможных миров), и коммуникативно-прагматические отношения между говорящим субъектом и формируемыми им высказываниями, а также между говорящим субъектом и адресатами его высказываний.
С учётом более или менее широкой перспективы проблема категории желательности была подвергнута достаточно полному анализу в синтаксических работах И.П. Распопова (Распопов 1973; Распопов 1981), в кандидатской диссертации его дочери Т.И. Распоповой (Распопова 1982), в принадлежащем Н.Ю. Шведовой обширном разделе о простом предложении во втором томе академической грамматики русского языка (РГ-И 1980) и в написанном Е.Е. Корди для коллективной монографии «Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность» специальном разделе об оптативности (Корди 1990).
В указанных работах использовался материал русского языка, и только Т.И. Распопова предложила сопоставительное описание русского и английского оптативного предложения. Для того, чтобы оценить в целом состояние проблемы желательности и сформулировать стоящие перед данной диссертацией задачи, было бы вполне достаточно дать подробную характеристику названных сочинений.
И.П. Распопов и Т.И. Распопова концептуальной рамкой для описания оптативных предложений делают понятие грамматических катёКфпий/ предложения. Так, у И.П. Распопова (Распопов 1973: 30—51; Распопов 1981: 24—44) различаются три категории предложения: целевое назначение, модальность, коммуникативная перспектива.
Наклонение упоминается как морфологическая категория слова. Модальность предложения отграничивается от категории целевого назначения. Из числа модальных значений исключаются разного рода эмоционально-экспрессивные отношения.
Категорию модальности И.П. Распопов представляет в виде набора из 4 бинарных оппозиций: ' реальность — потенциальность (возможность и необходимость) осуществления сообщаемого; объективная — субъективная возможность (или необходимость) осуще ствления сообщаемого, волеизъявление говорящего, адресованное — не адресованное другому лицу; волеизъявление говорящего, адресованное другому лицу непосредственно—опосредованно.
Неадресованность волеизъявления другому лицу является признаком, на основе которого желание противопоставляется побуждению.
Оттенки или виды желательности И.П. Распопов специально не характеризует. Не приводится им и описание специфических средств выражения желания. Лексические средства не привлекают его внимания, а это оказалось бы неизбежным при обращении к аппарату логики предикатов.
Т.И. Распопова (Распопова 1982) в основном принимает все уже охарактеризованные положения, касающиеся проблемы квалификации оптативных высказываний на основе их постепенного вычленения с опорой на образуемые модальными признаками дихотомии, подчёркивая вместе с тем ориентацию на принципы моделирования функционально-семантических полей, т.е. на идеи школы А.В. Бондарко. Неадресованные волеизъявления говорящего как раз и выступают в качестве содержания оптативных предложений.
Обращение к высказываниям с глаголом хотеть (Я хочу поехать домой; Я хочу, чтобы он поехал домой) используется, вслед за Ш. Балли (Балли 1955), для экспликации раздельности диктума и модуса и для разведения модального субъекта (идентичного говорящему) и субъекта желаемого действия.
Т.Г. Распопова признаёт, что этот тест не всегда позволяет идентифицировать собственно оптативные предложения. Поэтому предлагается метод построения оптативного поля с различением в этом поле центра, где локализуются структуры, анализ которых даёт вполне надежные результаты, и периферии, куда относятся структуры переходного характера. Поле оптативности включается на правах микрополя в поле волеизъявления.
В ядре поля неадресованного волеизъявления локализуются структуры, обладающие набором следующих семантических признаков: (1) элемент «желание», (2) элемент «я», (3) нейтральное отношение к адресату, (4) тождество субъекта желания и субъекта желаемого действия, (5) низкая вероятность осуществления желаемого действия. Вероятно, под элементом «желание» можно было бы понимать предикат типа хотеть, но Т.Н. Распопова не обращается к пропозициональному анализу оптативных высказываний (хотя к этому подталкивает различение, вслед за Ш. Балли, модуса и диктума). Не отмечает она и такого необходимого для оптативных предложений условия, как тождество субъекта желания и субъекта речи (говорящего).
К средствам выражения желательности в предложениях, принадлежащих центру поля, относятся: лексемы типа хотеть, форма сослагательного наклонения, -* инфинитив с бы (в русском языке), — форма придаточного предложения условия (в автономном употребле нии).
Переходная зона образуется на границе с микрополем побуждения.
Разграничение оптативных и императивных высказываний осуществляется в этом случае благодаря поддержке средств контекста и ситуации. Далее, в этой работе выделяются 11 лексико-семантических классов предикатов, указываются условия их употребления, характеризуются условия выбора формы субъекта, рассматриваются показатели осуществимости — неосуществимости желаемого положения дел. Большинству оптативных предложений приписывается эмоционально-экспрессивная окраска.
Очерк Е.Е. Корди «Оптативность» (Корди 1990: 170—185) помещён в книге «Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность» рядом с очерками о модальных микрополях возможности, необходимости, достоверности, повелительности. Он выполнен в духе идей создателя теории функционально-семантических полей А.В. Бондарко.
В функционально-семантическом поле группируются все языковые средства, которые служат выражению одного категориального значения и обеспечивают построение высказываний, описывающих категориальные ситуации одного типа (например, категориальную ситуацию желательности / оптативности). К таким средствам относятся не только морфологические (формообразовательные), но и синтаксические, интонационные, словообразовательные и лексические, а также контекстные.
Е.Е. Корди выделяет, опираясь главным образом на формальные (и прежде всего синтаксические) признаки, синтаксическую категорию оптатива как одну из модальных категорий и настаивает на особом статусе в русском языке оптативных предложений. Оптативность вместе с повество-вательностью, вопросительностью и императивностью образует категорию коммуникативной рамки высказывания.
Отношение оптативной модальности, как и модальности побудительной, исходит от говорящего. Соответственно оптативные и побудительные предложения объединяются в волеизъявительный тип. Модальность желания присуща обеим разновидностям данного типа.
Различия между ними отмечаются в двух моментах: только императивное предложение содержит семантический компонент каузации (побуждения к действию); императивная ситуация предполагает наличие исполнителя и при этом только одушевлённого.
Е.Е. Корди перечисляет в своей работе специфические средства выражения желательности в русском языке: независимые предложения с формой сослагательного наклонения; инфинитивные предложения с частицей бы; независимые предложения с формой сослагательного наклонения или инфинитива, вводимые частицами хоть бы, вот бы, если бы, только бы, лишь бы, пусть бы и др.; безглагольные предложения с частицей бы.
Она замечает при этом, что возможно использование и других средств как дополнительных.
Отдельно характеризуются лексемы со значением желания. Отмечается роль лексических значений существительных и глаголов в выражении частных оптативных значений. Цо среди рассматриваемых лексем не вы- деляются особо лексемы, способные выступать предикатами и нести в себе проекцию синтаксической конструкции оптативного высказывания.
Особое внимание уделяется отграничению оптативных конструкций от конструкций со значением обусловленности. Семантическая классификация оптативных высказываний ориентируется на разграничение таких оптативных значений, как: собственно желание; желание, сопряжённое с побуждением; неосуществимое желание, обращенное к прошлому; желание, сопряжённое с определённым условием, целью, сравнением; пожелание.
Внутреннее разбиение каждого из типов мотивируется наличием или отсутствием отрицания, выбором того или иного глагольного вида.
На иных основаниях строит свое описание категории желательности Н.Ю. Шведова (РГ-И 1980: 83—421). Для неё как последовательницы В.В. Виноградова (см. Виноградов 1975а; Виноградов 19756) концептуальную основу для описания категории модальности вообще и категории желательности в частности образует понятие предикативности (см. Ляпон 1990а; Ляпон 19906). Под предикативностью в виноградовской школе понимается высшая синтаксическая категория, план содержания которой образует отнесение (более точно — актуализованная отнесённость) информации к действительности. Эта категория формирует предложение как коммуникативную единицу.
Н.Ю. Шведова намечает несколько этапов квалификации предложения как языковой единицы.
На первом этапе она определяет предложение как высказывание, специально предназначенное языком для построения отдельной относи- тельно самостоятельной единицы сообщения, что выражается в наличии у такого высказывания предикативной основы (структурной схемы, отвлечённого образца), грамматическим значением которой является предикативность. Предикативность целым комплексом формальных синтаксиче-ских средств соотносит сообщение с тем или иным временным планом действительности.
На втором этапе конкретизируется представление о структуре категории предикативности. Категория предикативности формируется во взаимодействии времени и реальности / ирреальности, и образуемый в итоге комплекс значений представляет собой объективную модальность. Эта модальность включает в себя синтаксический индикатив (синтаксические наклонения, несущие объективно-модальные значения реальности, т.е. временной определённости — настоящего, прошедшего или будущего времени) и синтаксические ирреальные наклонения, несущие объективно-мо-дальные значения ирреальности, т.е. временной неопределённости (наклонения сослагательное, условное, желательное, побудительное, долженст-вовательное).
Предложение-инвариант реализуется в виде того или иного предложения-варианта. Оно выступает как класс (парадигма) находящихся в отношении противопоставления друг другу форм конкретных предложений. Полная грамматическая парадигма насчитывает 8 членов.
На третьем этапе выявляются присущие предложению собственная семантическая структура, обусловленная характером отношений предикативного признака к другим семантическим компонентам предложения, и система его регулярных реализаций.
На четвёртом этапе предпринимается осуществляемое с точки зрения цели / установки сообщения (коммуникативного задания) разграниче- ниє предложений на невопросительные и вопросительные. К невопросительным относятся предложения повествовательные, побудительные и предложения со значением желания. Последние выражают эмоционально-волевое устремление к тому, чтобы что-либо осуществилось, существовало, и имеют специальную форму выражения — синтаксическое желательное наклонение.
Формы желательного наклонения образуются в русском языке пятью основными способами:
Способ 1. Видоизменение главного члена предложения, выраженного спрягаемой формой глагола (сослагательное наклонение -л + бы), причём частица бы часто (особенно в разговорной речи) модифицируется другими частицами: хоть бы, если бы, когда бы, пусть бы, только бы, лишь бы, что бы, хорошо бы, вот бы, ладно бы, как бы не, не ... бы, (по)скорей бы, лучше бы, кабы; если бы только, когда бы только, пусть бы только, хоть бы только, хоть бы только, лишь бы только, скорей бы только, что если бы, хорошо (бы) если бы, хорошо бы чтобы; не мешало бы, не вредно бы, не худо бы.
Способ 2. Употребление в начальной позиции предложения, не имеющего в своем составе спрягаемой формы глагола, служебного глагола быть в сослагательном наклонении (тоже часто с модификациями частицы бы).
Способ 3. Употребление в начальной позиции предложения, не содержащего финитный глагол, служебного глагола быть в повелительном наклонении в сочетании с частицей бы.
Способ 4. Характерное для разговорной речи употребление в неглагольных и инфинитивных предложениях частицы бы (с её модификациями).
Способ 5. Постановка в ряде случаев глагола в форме повелительного наклонения (особенно в разговорной речи).
Н.Ю. Шведова тоже не ставит вопрос о модальных предикатах вообще, о модальной рамке предложения и о предикатах желания как конститутивных компонентах оптативных предложений.
Общее значение формы желательного наклонения предполагает отвлечённую устремленность к какой-либо действительности, которая может мыслиться как неопределённо отнесённая и в будущее, и в настоящее (осуществление возможно), и в прошлое (осуществление невозможно). Соответственно возможно обеспечиваемое множеством частиц и выбором того или иного интонационного контура различение следующих частных значений желательности:
Желательность + осуществимость: (а) собственно желаемость (это значение реализуется как собственно жела ние, нетерпеливое желание, опасение, т.е. отрицание желаемости); (б) желаемость избираемого и единственного (как необходимого вообще и как необходимого в качестве условия для чего-либо); (в) желаемость целесообразного и полезного (варианты: желание-допуще ние или одобрение, желание-просьба или совет, желание как утверждение позитивного).
Желаемость + неосуществимость или отсутствие осуществления: желаемость неосуществившегося (желаемое должно было быть, оно было бы целесообразно, его отсутствие сказывается отрицательно, оно имело бы компенсирующее значение); желаемость ^осуществляющегося (желаемое тем не менее возможно, оно возможно и предпочтительно по сравнению с чем-либо другим, его осуществление имело бы компенсирующее / дополняющее значение).
По существу, перед нами предстают три различных подхода к выделению высказываний желания: коммуникативно-прагматический подход — неадресованность оптативного высказывания, в то время как побудительное высказывание характеризуется адресованностью (И.П. Распопов и Т.И. Распопова); структурно-семантический подход — отсутствие в содержательной структуре оптативного высказывания семантического компонента [+ каузация], обязательного для содержательной структуры побудительных высказываний, что можно записать в виде [- каузация] (Е.Е. Кор- экспрессивно-модальный подход — выражение эмоционально-волевого устремления к тому, чтобы что-либо осуществилось (Н.Ю. Шведова).
Ориентация на любой из этих признаков может быть подвергнута сомнению. Неадресованность — не вполне доказательный признак. Вернее было бы говорить о невыраженности прагматического, речеактового компонента [адресат высказывания]. Семантический компонент [+ каузация] присущ и вопросительным высказываниям, а признак [- каузация] характеризует также повествовательные предложения (в их первичном, констатирующем или ассертивном употреблении). Эмоциональность и экспрессивность могут характеризовать не только высказывания желания. Таким образом, вопрос о конституирующем оптативное высказывание признаке остаётся открытым. Проблема предикатов желания затрагивается лишь в работе Т.И. Распоповой.
Все три автора намечают довольно широкий диапазон содержания психического феномена «желание». Но Т.И. Распопова, Е.Е. Корди и Н.Ю. Шведова, во-первых, не ставят своей задачей осуществить детальный семантический анализ существительного эюелание и, глаголов типа хотеть, желать, во-вторых, к лексическим единицам языка как носителям значе- ния желательности они обращаются в последнюю очередь или же вообще не обращаются.
В этом свете представляет большой интерес статья И.Б. Шатунов-ского «Пропозициональные установки: воля и желание» (Шатуновский 1989: 155—185). Этот автор анализирует смысловое содержание таких эпистемических предикатов (предикатов мнения), как знать, думать, считать, полагать, предполагать, верить и т.д., и предикатов волеизъявления, намерения и желания. Анализируя предикаты последней группы, он обращается к семантике слова воля, вводит понятия контролируемых и неконтролируемых «положений вещей», различает до 5 видов контролируемости, увязывает понятия контролируемости и возможности, подробно останавливается на ситуациях намерения и решения. Что касается ситуаций, когда употребляют слово хотеть, И.Б. Шатуновский обсуждает такие проблемы, как ирреальность объекта желания, направленность желания в будущее, где только и возможно его исполнение, характер оценки говорящим желаемого положения дел. Такая оценка, предполагающая предпочтение одного ирреального положения дел другому, тоже ирреальному, по его мнению, может быть только чувственной (сенсорной) и сводиться к гипотетическому хорошо.
Ситуации желания и воли различны и вместе с тем взаимосвязаны: желание возникает при возможности выбора (а это существенный признак воли), желание выступает как мотивировка выбора. Но желание, в отличие от воли, может предполагать выбор не только контролируемых, но и неконтролируемых и даже невозможных положений дел. Отсюда закономерное расширение значения слова хотеть: С (субъект) хочет Р = 'С хочет Р и поэтому намерен Р' = 'С намерен Р, потому что хочет Р\ И.Б. Шатуновский практически остаётся в русле логического толкования предикатов пропозициональной установки, хотя возможно и собственно лингвистиче- ское толкование предикатов пропозициональной установки, опирающееся на данные словарей.
К тому же, ограничение материалом только одного языка не позволяет увидеть, как соотносятся между собой в рамках микрополя желательности морфологические (синтетические и аналитические) средства, различные синтаксические конструкции, включающие в свой состав слова знаменательные и незнаменательные, лексемы определённых классов и т.д.
Следует признать справедливость напоминания В.М. Жирмунского о том, что «... изолированное изучение разных европейских языков фактически привело к тому, что совершенно тождественные явления, существующие в разных языках, нередко называются разными терминами и интерпретируются по-разному, не потому, что они объективно различны, но потому, что различны точки зрения исследователей, и потому, что эти исследователи работают без оглядки друг на друга» (Жирмунский 1965: 6).
Поэтому желательно расширить круг языков, привлекая эмпирический материал, который обычно не попадает в стандартные описания функционально-семантических (или, предпочтительнее, когнитивно-коммуникативных) категорий.
В описании оптативных высказываний пока не наблюдаются попытки использовать концептуальный аппарат теории речевых актов и формализмы иллокутивной логики. А главное, здесь не используется довольно эффективный аппарат логики предикатов, хотя к этому подталкивают и достижения в области синтаксической семантики (Кацнельсон 1972; Сусов 1973, Богданов 1977), и работы в области классификации предикатов пропозициональной установки (Арутюнова 1976; Арутюнова 1988), и работы, посвященные структуре модуса (Балли 1955; Алисова 1971; Гак 2000).
Соответственно в данной диссертации ставится главной целью, опираясь на материал ряда языков, описать высказывания желания как специфические структуры, обладающие и универсальными, и идиоэтническими чертами, делая упор на предикатах желания.
Предполагается в ходе изложения диссертационных результатов: проанализировать возможности семантического (и шире - семантико-прагматического) представления оптативных высказываний; уточнить состав компонентов модально-актуализационной рамки оптативных высказываний, обратив особое внимание на семантическое содержание и синтаксическое поведение предикатов желания типа хотеть; рассмотреть взаимоотношение оптативности и иллокутивности и выявить прагматический потенциал высказываний желания; уточнить критерии выделения высказываний желания.
Теоретическую основу данного исследования, посвященного модальности вообще и желательности как одному из модальных значений, образуют идеи, которые высказывались в многочисленных исследованиях языковедов по поводу понятия модальности, границ модальной сферы, разграничения различных видов модальности, соотношения модальности и наклонения, отношения модальности и модуса (Адмони 1955; Адмони 1956; Адмони 1964; Адмони 1968; Алисова 1971; Арутюнова 1976; Арутюнова 1988; Арутюнова 2000; Балли 1955; Бондарко 1971; Бондарко 1976; Бондарко 1978; Бондарко 1987; Бондарко 1990; В.В.Виноградов 1972; В.В.Виноградов 1975а; В.В.Виноградов 19756; Гак 2000; Гулыга и Шендельс 1969; Есперсон 1958; Зеленщиков 1997; Иванова 1997; Касевич 1988; Лайонз 1978; Ломтев; Мартынов 1982; Мещанинов 1978; Мещанинов 1982; Москальская 1956; Пешковский 1956; Распопов 1973; Рваспопов 1981; РГ-И 1980; Степанов Brunot 1953; Erben 1963; Lyons 1979; Parret 1987; F. Schmidt 1961; F. Schmidt 1970; W. Schmidt 1983).
Используются прежде всего важные для рассмотрения специфики оптативных высказываний идеи теории функционально-семантического поля, идеи логики предикатов (в частности теории предикатов пропозициональной установки), идеи теории модуса и диктума.
В данной диссертации такие значения, как утверждение (аффирма-тивность) и отрицание (негативность), повествовательность и вопроси-тельность, эмотивность и экспрессивность, выносятся за пределы поля модальных значений.
В ходе исследования используются приёмы, входящие в разнообразные методы дедуктивного (логического) и индуктивного (эмпирического) характера: целенаправленное наблюдение фактов и их классификация на основе дихотомических признаков, пропозициональный анализ высказываний желания, анализ семантического содержания и синтаксического поведения предикатов желания, анализ соотношения модусной части и диктума оптативных высказываний, контрастивныи анализ высказываний со значением желательности на разных языках и т.п.
В итоге диссертационного исследования формулируются положения, выносимые на защиту:
1. Желательность (оптативность) — одна из универсальных модусных категорий предложения. Её категориальное значение — высказанное говорящим желание того, чтобы имело место определённое положение дел (ситуация или событие), которое представляет интерес для самого говорящего, его адресата или третьего лица, но реализация которого не обязательно вменяется говорящим в обязанность тому или иному исполнителю.
Модус оптативных высказываний содержит прежде всего предикат желания, который необязательно должен быть выражен глаголом, и эксплицитный или имплицитный субъект желания, характеризуемый семантическими признаками [+ одушевлённость], [+ говорящий / субъект высказывания]. Модус в целом может быть имплицитен.
Предикат желания, будучи носителем обязательной валентности, открывает позицию для диктума (пропозиционального содержания), который соотносится с дезидератом, т.е. желаемым положением дел (ситуацией или событием).
Кроме того, в семантическом представлении оптативного высказывания содержится имплицитный смысловой компонент (бенефициатив или бенефактив), соотносящийся с лицом, в пользу или в ущерб которому могло бы совершиться желаемое. Этот компонент входит в состав модуса желания, отличая оптативные высказывания от побудительных (императивных).
Комплекс «оптативный модус + дезидерат», в свою очередь, включается в коммуникативную рамку, образуемую предикатом говорить. Обязательными условиями для оптативного высказывания являются: тождество субъекта говорения и субъекта желания; тождество момента и места желания с моментом и местом речи.
Когнитивно-коммуникативная категория желательности имеет структуру поля. Она имеет в своём распоряжении разнообразные языковые средства, среди которых доминирующую роль занимают предикатные слова со значением желания.
Морфологические наклонения, способные выражать значение желательности, представляют собой высший уровень грамматикализации этого значения, но их наличие не является обязательным условием для постулирования когнитивно-коммуникативной категории желательно- сти. Они принадлежат к поверхностному уровню высказывания, и простые или комплексные показатели наклонений являются репрезентантами глубинных модусных операторов желания.
В этих положениях содержится ряд новых идей.
Во-первых, приоритет в анализе оптативных высказываний отдаётся анализу семантического содержания и синтаксического поведения предикатов желания. Постулируется наличие глубинных модусных операторов желания, реализующихся различными средствами на уровне поверхностной грамматической структуры предложения.
Во-вторых, оптативное высказывание предстаёт как трёхуровневая структура: базовый уровень — пропозиция, выражающая желаемое положение дел (дезидерат); центральный (и наиболее важный для высказываний данного типа) уровень — оптативный (или дезидеративный) модус; верхний уровень — уровень речевого акта.
В-третьих, отмечается обязательность не только идентичности субъекта желания и субъекта говорения, но и идентичности времени и места переживания желания с временем и местом его речевого воплощения.
В-четвёртых, в структуру семантического представления оптативного высказывания вводится бенефактивный компонент, что тоже представляется несомненным шагом вперёд в описании этого типа высказываний.
Тем самым дальнейшее развитие получает теория модальности в целом и теория категории / поля оптативной модальности.
Данные положения имеют определённую прикладную значимость в обучении анализу текста, в переводческой деятельности, в преподавании практики иностранных языков.
Структура диссертации определяется объектом и предметом, а также целью и задачами исследования.
В первой главе делается попытка суммировать лингвистические знания о модальности, полученные при опоре на формально-логический подход, на анализ взаимоотношения модальности и наклонения, модальности и модуса, на достижения функциональной грамматики (учения о функционально-семантическом поле, которое кажется более точным называть когнитивно-коммуникативным полем).
Во второй главе на материале разных языков рассматриваются способы и средства выражения модальности желания, среди которых ведущее место отдаётся предикатам желания. Морфологические способы характеризуются как ступени грамматикализации категории оптативности, присущие далеко не всем языкам. Здесь предлагается теоретическая трёхуровневая модель оптативного высказывания.
Введение и Заключение выполняют свои традиционные функции — введение в проблему и подведение итогов исследования.
Выбор языков для наблюдения и сопоставления мотивируется прежде всего тем, что автор диссертации длительное время занимается преподаванием иностранных языков и организацией этого процесса в университете в условиях естественного для национальной республики многоязычия. Вместе с тем с позиций общего языкознания показалось заманчивым использовать языковой материал вне этого круга, включая и древние языки.
Основные диссертационные результаты освещались в докладах на заседаниях кафедры и факультетского теоретического семинара, на конференциях в Удмуртском и Тверском государственных университетах.
По теме диссертационного исследования имеется 4 публикации.
От глагольных наклонений к модальностям высказываний
В современной науке о языке о модальности чаще говорят, имея в виду предложение (или высказывание), тогда как понятие наклонения (лат. modus) обычно связывается со словом. Тем самым модальность и наклонение разводятся между собой: наклонение считается объектом морфологии, а модальность — объектом синтаксиса. Наклонение объявляется морфологической категорией, модальность — категорией синтаксической (ТГАЯ 1983:148—153; Гак 1981: 143—144).
Раньше, ещё в средневековый период, подобное разграничение между объектами имело место в двух смежных науках — философии и языкознании. В философской и формальной логике проблема модальности, начиная с Аристотеля, разрабатывалась в ходе анализа суждений (высказываний). Грамматика же на протяжении тысячелетий имела дело прежде всего с формами и значениями слов, в том числе и глагола, являясь по преимуществу морфологией.
Начиная в своё время разработку проблемы языковой (или синтаксической) модальности, лингвисты исходили, как правило, и нередко продолжают исходить сейчас из грамматических значений глагольных форм наклонений.
Итак, наклонение представляет собой грамматическую категорию. В имеющих сегодня хождение теориях грамматических категорий (Зиндер, Строева 1957; Москальская 1956; Гухман 1968; Бондарко 1976; Булыгина 1977; Лайонз 1978; РГ-І 1980; Иванова, Бурлакова, Почепцов 1981; Лопатин 1990а; Лопатин 19906; Маслов 1997; Реформатский 1999) принято учитывать следующие моменты: Грамматическая категория объединяет двусторонние единицы, обладающие и планом содержания (значением, конкретно грамматическим значением), и планом выражения. Грамматические значения суть не что иное, как не называемые непосредственно в высказывании «отношения действительности в их самом общем понимании в преломлении в сознании человека» (Степанова, Хельбиг 1978: 89), как «отношения между понятиями, отражающими явления реального мира» (Зиндер, Строева 1957: 9; ср. также Маслов 1997: 125—126). Для грамматического значения обязателен грамматический же способ его манифестации. «Грамматическое значение не существует вне грамматической формы, равно как и грамматическая форма всегда связана с каким-либо грамматическим значением» (Зиндер, Строева 1957: 9). Грамматическая категория устроена как система противопоставленных друг другу единиц (вернее, рядов или видов единиц, частных грамматических категорий, разрядов, граммем). Внутри неё на основе какого-то общего смыслового признака группируются грамматические значения, каждое из которых находится в оппозиции всем другим грамматическим значениям внутри данной категории как класса. Система противопоставлений между грамматическими значениями поддерживается системой противопоставлений формальных средств, выражающих эти значения. Грамматическая категория предполагает противопоставление не менее двух её членов. В противном случае о ней не приходится говорить. Грамматическая категория в принципе представляет собой закрытый класс элементов, парадигму с конечным числом элементов. Грамматическая категория может быть морфологической (грамматической категорией слова) и синтаксической (грамматической категорией предложения). Членами морфологических категорий являются ряды противопоставленных друг другу частных грамматических значений слова вместе с формальными средствами их выражения. Аналогично, синтаксические категории организованы как ряды противопоставленных друг другу частных грамматических значений предложения вместе с формальными средствами их обнаружения. Морфологические категории могут быть словоизменительными, или формообразовательными (друг другу противостоят разные формы одного и того же слова, различающиеся своими частными грамматическими значениями), и классификационными, или несловоизменительными (друг другу противостоят внутри одного класса слов разные слова, различающиеся между собой частными грамматическими значениями). Наклонение обычно характеризуется как формообразовательная категория глагола, посредством которой выражается отношение действия, названного глаголом, к действительности с точки зрения говорящего (Ре- феровская 1990). Категория наклонения предполагает существование не менее чем двух наклонений. Обычно его систему образуют, во-первых, изъявительное наклонение (индикатив), выступающее как прямое (отнесение действия в план реальности), исходное, немаркированное, и, во-вторых, одно или несколько косвенных, маркированных наклонений, относящих действие в план ирреальности. Языки, имеющие системы изменения глагола по наклонениям, могут насчитывать разное число наклонений. Е.А. Реферовская (Реферовская 1990: 321—322) называет среди косвенных наклонений, отмечаемых в разных языках, такие, как: Возможно, это далеко не полный перечень так называемых наклонений. Каждый из языков имеет свой собственный набор косвенных наклонений (в тюркских языках от 4 до 12). Уже первое ознакомление с этой номенклатурой показывает существенные расхождения не только и не столько между языками, сколько расхождения между языковедами в вопросе о том, где проходит граница между значениями собственно модальными, коммуникативной установки, аффирмативности (утверждения — отрицания), иллокутивными (речеакто-выми), между морфологическими наклонениями и синтаксическими модальностями (или синтаксическими наклонениями) и т.п. В.В. Виноградов (Виноградов 1972: 457—476) наглядно показал на примере истории русского языкознания, что номенклатура наклонений в русском языке во многом определяется различными теоретическими подходами исследователей. Любопытно сопоставить отмеченные им разные наборы наклонений:
Полевой подход к описанию модального плана высказываний
Благодаря работам многочисленных учёных, особенно Фердинанда Брюно (Brunot 1953), Отто Есперсена (Есперсен 1958), Шарля Балли (Бал-ли 1955), И.И. Мещанинова (Мещанинов 1978; Мещанинов 1982), В.В. Виноградова (В.В. Виноградов 1972; В.В. Виноградов 1975а; В.В. Виноградов 19756), В.Г. Адмони (Адмони 1955; Адмони 1964; Адмони 1973; Admoni 1986), Н.Ю. Шведовой (РГ-И 1980; Шведова 1990), Е.В. Гулыги и Е.И. Шендельс (Гулыга и Шендельс 1969), А.В. Бондарко (Бондарко 1971; Бондарко 1976; Бондарко 1978; Бондарко 1984; Бондарко 1987; Бондарко 1990), В.Г. Гака (Гак 2000), Франтишека Данеша (Danes 1966) в языкознании получило признание широкое понимание модальности, в соответствии с которым модальные значения выражаются не только морфологическими средствами, а именно синтетическими и аналитическими формами глагольных наклонений, но и различными синтаксическими конструкциями, не получившими статуса включаемых в словоизменительную парадигму аналитических форм, модальными словами и частицами, знаменательными словами, словопорядком и интонацией.
В основу таких исследований был положен принцип полевого подхода. В отличие от грамматической категории, поле не представляет собой закрытого множества однородных единиц. В нём могут группироваться выполняющие одно и то же (или сходное) смысловое задание средства разных структурных уровней языка, так что парадигматические отношения между единицами теперь устанавливаются в более широком диапазоне, а именно в пределах всей языковой системы.
Вместе с тем жёсткие границы между противопоставляемыми единицами могут отсутствовать. Переход от одного частного значения к другому может быть постепенным.
Одни из этих единиц в большей степени специализированы на выражении определённого значения, грамматикализованы в более значительной мере, чем другие. Могут выделяться один или несколько центров, вокруг которых и происходит объединение омосемичных единиц. Вокруг центра располагается периферия. о Такого рода идеи в наиболее эксплицированной форме излагаются создателем оригинальной теории функционально-семантического поля А.В. Бондарко и его сторонниками. А.В. Бондарко исходит из следующих принципов: 1. Системно-структурной (уровневой, системно-дифференцирующей, ча-стносистемной) грамматике противостоит функциональная (разноуровневая, системно-интегрирующая) грамматика, тесно связанная с первой, но предполагающая другой принцип членения языковой системы — не на структурные уровни, а на функционально-семантические поля. 2. В основе функционально-семантического поля (или же функционально-семантической категории) лежит некая понятийная, или когнитивная, или семантическая категория, т.е. некое значение, подлежащее выражению средствами данного языка. 3. В полевом анализе исследователь идёт от значения или функции к языковым средствам, т.е. опирается на ономасиологический подход; ср. позицию активной грамматики Л.В. Щербы (Щерба 1974). 4. В поле объединяются омосемичные (или изофункциональные) языковые средства морфологического, синтаксического, словообразовательного, лексического, интонационного характера. В выражении данного значения могут участвовать также и средства контекста. 5. В поле различаются центр и периферия (ближняя и дальняя). 6. Поля могут быть моноцентрическими (сильно центрированными) и полицентрическими (слабо центрированными). 7. К числу сильно центрированных функционально-семантических полей в русском языке относятся аспектуальность, темпоральность, персо-нальность, залоговость, компаративность. В их структуре доминируют соответствующие морфологические категории. 8. Слабо центрированными в русском языке являются функционально-семантические поля таксиса, бытийности, состояния, субъектности, объ-ектности, определённости / неопределённости, качественности, количе-ственности, посессивности, локативности, причины, цели, условия, уступки, следствия. 9. В поле может отсутствовать центр. Оно характеризуется в таком случае как поле рассеянной (диффузной) структуры. Ю.Поля могут пересекаться друг с другом (например, аспектуальность и темпоральность, аспектуальность и модальность). 11. То или иное функционально-семантическое поле может объединять в себе ряд полей меньшего объёма (микрополей). 12.Поле представляет собой парадигматическое образование. Оно соотносится с соответствующей категориальной ситуацией как типовой содержательной структурой. Эта ситуация базируется на соответствующей семантической категории и представляет тот или иной её частный аспект (аспектуальный, темпоральный, модальный и т.п.). Так, поле ли-митативности, выделяемое в составе поля аспектуальности, реализуется в высказываниях через лимитативные ситуации (предельно-процессные, непредельно-процессные, непроцессные). При анализе каждого модального поля ему в соответствие ставится та или иная категориальная ситуация — ситуация возможности, необходимости, желательности, побудительности и т.п. 13.Функционально-семантические поля в каждом данном языке образуют целостную функциональную систему, описание которой составляет задачу функциональной грамматики. 14.Между языками в структуре их полей, базирующихся на одной и той же семантической категории, могут иметь место существенные различия. Так, в коллективной монографии «Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность» (Л., 1990: 59—243) поле модальности представлено набором (системой?) таких микрополей, как: — Возможность Необходимость . Достоверность Поля возможности и необходимости объединяются в сфере потенциальности, поле оптативности соотносится с полем повелительности в рамках сферы волитивных значений (ниже приводится схема, иллюстрирующая соотношения между названными пятью полями). Признаётся проблематичность объединения всех этих значений как разных проявлений модальности (Бондарко 1990: 59—67).
Высказывания с эксплицитным дезидеративным модусом
При описании категории желательности внимание исследователей привлекают прежде всего две проблемы: - Что следует понимать под желанием? Можно ли постулировать нали . чиє инвариантного значения желания, которое объединяло бы все част ные употребления слов желание и хотеть, желать! Или же стоит про сто признать наличие достаточно широкого спектра оптативных значе ний, трудно отграничиваемых друг от друга? - Какой принцип лежит в основе организации поля желательности? Нуж но ли исходить из признания того, что центр этого поля образуют грамматические (и главным образом морфологические) средства, а именно наклонения глагола? Или же признать доминантой когнитивно-коммуникативного поля совокупность предикатов со значением желания, тем более что именно они задают структурно-синтаксй ческу ю схему и глубинную смысловую структуру оптативного предложения? Обе эти проблемы связаны друг с другом. Во Введении указывалось на основные подходы к трактовке значений оптативных высказываний. Отмечалось, что Т.И. Распопова в ядре поля неадресованного волеизъявления локализует Структуры, обладающие набором Следующих семантических признаков: (1) элемент «желание», (2) элемент «я», (3) нейтральное отношение к адресату, (4) тождество субъекта желания и субъекта желаемого действия, (5) низкая вероятность осуществления желаемого действия (Распопова 1982). Но что в себя включает элемент «желание», она не уточняет. Е.Е. Корди в число значений оптативных высказываний включает: а) собственно желание; б) желание, сопряжённое с побуждением; в) неосуществимое желание, обращенное к прошлому; г) желание, сопряжённое с определённым условием, целью, сравнением; д) пожелание (Корди 1990). Опять-таки содержание концепта «желание» не раскрывается. Н.Ю. Шведова общее значение формы желательного наклонения видит в отвлечённой устремленности к какой-либо действительности, которая может мыслиться как неопределённо отнесённая и в будущее, и в настоящее (осуществление возможно), и в прошлое (осуществление невозможно). Соответственно она считает возможным различать обеспечиваемое множеством частиц и выбором того или иного интонационного кон-Тура следующие частные значения желательности: 1. Желательность + осуществимость: (а) собственно желаемость (это значение реализуется как собственно желание, нетерпеливое желание, опасение, т.е. отрицание же-лаемости); (б) желаемость избираемого и единственного (как необходимого вообще и как необходимого в качестве условия для чего-либо); (в) желаемость целесообразного и полезного (желание-допущение или одобрение, желание-просьба или совет, желание как утверждение позитивного). 2. Желаемость +. неосуществимость или отсутствие осуществления: а) желаемость неосуществившегося (желаемое должно было быть, оно было бы целесообразно, его отсутствие сказывается Отрицательно, оно имело бы компенсирующее значение); б) желаемость неосуществляющегося (желаемое тем не менее возможно, оно возможно и предпочтительно по сравнению с чем-либо другим, его осуществление имело бы компенсирующее / дополняющее значение) (РГ-П 1980). Для Н.Ю. Шведовой желание — это отвлечённая устремлённость к какому-то явлению действительности, которая предполагает как осуществимость, так и неосуществимость желаемого, нетерпеливость, опасение, допущение или одобрение, обращение с просьбой, подчёркивание предпочтительности и целесообразности осуществления желаемого. В данной диссертациие предпринимается попытка истолковать слова желание, хотеть, желать и т.п., опираясь на данные словарей. Семантический потенциал лексем (и в особенности глагольных лексем как главных претендентов на роль модусных предикатов) представляет собой исключительно богатый материал для анализа оптативных высказываний. Обращение к ним позволяет выяснить, а) что собой представляет желание как денотат, т.е. переживаемое индивидом (субъектом желания) психическое состояние, б) какие семантические компоненты входят в соответствующий сиг нификат (концепт желания как когнитивно-коммуникативный феномен), в) в каких предикатах этот концепт может реализоваться в составе семантического представления высказывания желания и г) какие единицы или комплексы единиц данного языка (слова и вы ражения, синтаксические конструкции, морфологические формы слова и т.п.) могут претендовать на то, чтобы репрезентировать эти предикаты. Такой путь оправдывает себя, так как в этом случае вниманию исследователя непосредственно предстают эксплицитные, развёрнутые способы построения оптативных высказываний и модусные глаголы-предикаты типа хотеть, которым принадлежит главная роль в развёртывании высказываний со значением желательности. Обращение к словарному толкованию семантического содержания такой, например, глагольной лексемы, как хотеть (и её соответствий в других языках: нем. wollen, англ. want, фр. vouloir, исп. querer, морд, по-тьшы), и, соответственно, субстантивных лексем типа желание (нем. Wunsch, англ. wish, desire, франц. souhait, vouloir, volonte, морд, эсэп, мьиі-кыд) может оказаться более наглядным, нежели анализ грамматического значения желательного наклонения или другого наклонения, способного выражать оптативные значения. Конечно, приходится считаться с тем, что в высказываниях на языках, имеющих морфологические формы наклонений, одновременно реализуются, взаимодействуя друг с другом, модальные значения и глагольных лексем, и грамматических форм. В русском языке существительное Желание, согласно четырёхтомному академическому «Словарю русского языка», неоднозначно. Оно имеет два основных значения (СРЯ Т. I: 475): 1. Внутреннее стремление, влечение к осуществлению чего-л., к обладанию чем.-л. Высказанное кем-л. стремление к осуществлению чего-л., к обладанию чём-л.; просьба, пожелание. 2. Любовное влечение, вожделение. В качестве его синонимов двухтомный «Словарь синонимов русского языка» (ССРЯ Т. I: 333—334) называет слова вожделение, похоть. «Словарь синонимов русского языка» З.Е. Александровой (Александрова 1968: 136) предлагает более дифференцированный набор соответствий: 1. воля; хотение (разг.); произволение (уст. книжн.) I высказанное: пожелание; волеизъявление (книжн. и высок.) 2. стремление, вожделение, мечта, аппетит, жажда (книжн.) 3. см. готовность (в значении: охота, желание) 4. см. вожделение в значениях 1. желание, страсть (грубо-чувственное: похоть); 2. желание. Существительное желание оказывается, таким образом, доминирующим в синонимическом ряду. В его внутреннем содержании акцентируются такие элементы, как внутреннее или высказанное вслух стремление к чему-либо и воля к осуществлению какого-либо действия или к обладанию чем-либо. По мнению И.Б. Шатуновского, субъект ситуаций, описываемых словами желания, определённым образом оценивает Р (положение дел, пропозицию), не находя, как правило, в желании (вероятно, следовало бы сказать: в желаемом. — Р.Ш.) ничего приятного: «Недаром говорят: мучительное желание, но не говорят: сладостное I приятное желание» (Шату-новский 1989: 176).
Высказывания с диктальными глаголами в сослагательном и условном наклонениях (конъюнктиве и кондиционале)
Довольно многие языки не имеют специализированного на выражении значения желательности наклонения — оптатива. В них в этой функции используются другие косвенные наклонения: сослагательное (конъюнктив, или субъюнктив, во французской граммматике сюбжонктив), условное (кондиционал) и нередко повелительное, а также различные модальные слова и частицы, особые синтаксические конструкции и т.д. Анализ в таких случаях осложняется тем, что в каждом из таких языков обнаруживается большое множество конкурирующих друг с другом поверхностных представителей глубинного модусного оператора желания.
Ограничимся материалом только некоторых языков из числа индоевропейских (прежде всего латинского, русского, ряда германских и ряда романских).
Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков исходит из того, что функции праиндоевропейского оптатива по наследству передаются прежде всего конъюнктиву. В латинском языке оптатив оказался включён в конъюнктив, представленный рядом синтетических (образованных посредством аффиксального способа) временных форм и располагающий достаточно широким диапазоном модальных значений. В традиционных латинских грамматиках сугубо на семантической основе вычленяется Coniunctivus optativus, представленный рядом временных форм (Боровский, Болдырев 1949; Винничук 1985; Каган 1995; Латинский язык 1983; Покровская, Кацман 1987).
Таким образом, в латинском языке значение желательности оказывается одним из большого ряда значений сослагательного наклонения. Желаемое положение дел здесь, как и в языках, обладающих оптативом, выступая тоже как более или менее ирреальное, более или менее отдалённое от актуального времени (момента речи), направленное в настоящее или будущее или же обращенное в прошлое, относительно выполнимое или же невыполнимое, а также как пожелание другим людям, заклинание. Оно смыкается со значениями побуждения, приглашения к совместному действию, обусловленности, уступки и т.п.
В русском языке картина, как представляется, намного сложнее. Здесь сослагательное наклонение является ведущим, но не единственным способом выражения желательности. В академической «Грамматике русского языка» ГРЯ-І 1953: 503—504) употребляются факультативно два названия этого наклонения — сослагательное и условное, указывается и на возможность называть его в целях большей точности предположительным. Значение желания, нередко содержащее в себе оттенки экспрессии, занимает особое место в ряду его значений. Семантика сослагательного наклонения часто осложняется примыкающими к глаголу частицами. Нередко также употребление союзов если и хотя.
Конструкция, включающая в свой состав показатель аналитической формы сослагательного наклонения -л + бы или частицу бы нередко в сочетании с если, хотя и т.п., представляет собой поверхностную манифестацию глубинного модусного оператора желания.
Я бы сейчас пива выпил. (А. Арбузов) = Я сейчас хочу выпить пива. Если бы снять с груди и плеч моих тялсёлый камень, если бы я могла забыть моё прошлое. (Чехов) = ... я хочу забыть моё прошлое. Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте\ (А. Чехов) = Я хочу, чтобы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте. Изволь, я буду вполне откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только бы ты мне верила\ (Ф. Достоевский) Вольность-то, Наташа, дороже всего. Я век бы здесь надрывалась, только бы не у свёкра жить. (Ф. Гладков) Я просил бы вас зайти ко мне. [Учтивое пожелание-просьба.] Пожалуй идите, только право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут у нас подождали, а мы бы пошли с богом. (Л. Толстой) Счастливый я... Только бы никогда это не кончилось. (А. Арбузов) Соня. Ты бы ложилась, нянечка, уже поздно. Марина Самовар со стола не убран, не очень-то ляжешь. (А. Чехов). Ирина. Вы бы, доктор, шли спать. (А. Чехов) Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва. (В. Шукшин) Чем тревожить меня разными словами, вы бы лучше ииш танцевать. (А. Чехов) Черти бы тебя взяли. Границы между значениями желательности нащупываются с огромным трудом. Собственно желание нелегко отграничивается от желания, сопряжённого с побуждением. Различение выполнимого и невыполнимого желания в русском языке скорее оказывается возможным благодаря характеру желаемого положения дел (дезидерата) и речевому контексту. Желания редко высказываются без эксплицитной или имплицитной опоры на потребности и мотивы их субъекта, без ограничения их сферы определёнными условиями. Чётче всего отграничиваются пожелания (типа поздравлений, здравиц, тостов, пророчеств) и проклятия. Сложная картина наблюдается также в германских языках, где функции выражения значений желательности распределяются самым противоречивым образом между модусными предикатами пропозициональной установки, косвенными наклонениями (конъюнктив, или субъюнктив, и императив), многочислеными модальными словами и частицами, особыми синтаксическими конструкциями, средствами словопорядка и интонации. Немецкий язык имеет 3 наклонения: индикатив, императив, конъюнктив (Moglichkeits- oder Heischeform), причём в состав последнего иногда включаются описательные формы кондиционала (с wtirde, tate и модальными глаголами). См. работы (Адмони 1955; Адмони 1986; Гулыга, Натанзон 1957; Гулыга, Шендельс 1969; Шендельс 1954; Admoni 1986; Arssenjewa 1960; Brinkmann 1962; Duden 1973; Erben 1963; Gulyga, Nathanson 1966; Helbig 1972; Schendels 1979, Jung 1966).