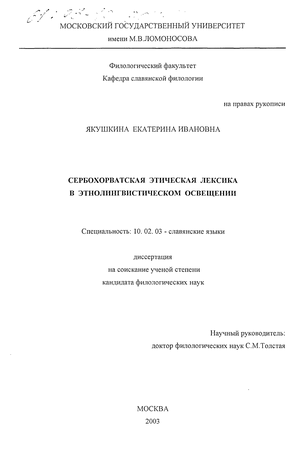Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Семантические связи этической лексики с другими лексико- семантическими полями . 44
1.1. Оппозиции «прямой» - «кривой» и «прямой» - «обратный» и их культурные коннотации. 50
1.2. Семантика корней мрс-, пост- и благ-: к вопросу о взаимодействии семантических полей пищи и этики. 71
1.3. Этическая семантика соматизмов в сербохорватских говорах . 103
Глава II. Семантика ключевых оценок сербохорватской народной этики . 114
II.1. Концепт доброго дела в контексте сербохорватской народной этики . 117
II.2. Концепт греха в контексте сербохорватской народной этики . 131
Заключение. 148
Список литературы. 154
Приложение: указатель анализируемых лексем. 168
- Семантика корней мрс-, пост- и благ-: к вопросу о взаимодействии семантических полей пищи и этики.
- Этическая семантика соматизмов в сербохорватских говорах
- Концепт доброго дела в контексте сербохорватской народной этики
- Концепт греха в контексте сербохорватской народной этики
Введение к работе
Настоящая работа посвящена этнолингвистическому анализу сербохорватской диалектной лексики этического поля, принадлежность к которому определяется присутствием в семантической структуре слова этической оценки, квалифицирующей поведение человека с точки зрения его соответствия религиозно- или социально-нравственной норме. Исследование имеет два основных аспекта: лексико-семантический (анализ структуры поля этики и путей его формирования) и концептуальный (анализ концептов, стоящих за ключевыми оценочными словами этического поля). Этическая лексика рассматривается в работе как интегральная часть особой области традиционной духовной культуры - народной этики - и как одна из форм воплощения соответствующего фрагмента традиционной картины мира -народных представлений о морали.
Семантика корней мрс-, пост- и благ-: к вопросу о взаимодействии семантических полей пищи и этики.
В архаической славянской и христианской культуре еда является одной из самых аксиологизированных и этически регламентированных областей человеческой жизни. Высоким ценностным статусом в народном миропонимании наделяется как сама пища, так и отдельные ее свойства, аксиологическая трактовка которых, однако, может быть различной в разных нормативных системах традиционной культуры. К числу наиболее аксиологически «нагруженных» пищевых признаков принадлежат признаки «скоромный», «жирный» и «постный», характеризующиеся широким диапазоном оценочных коннотаций, в котором значительное место принадлежит этической семантике. Семантические связи пищевой и этической лексики отражаются в целом ряде языковых фактов: во-первых, это переходы слов из одного поля в другое, во-вторых, - пересечение семантических спектров пищевых и оценочных слов, в-третьих, - общность семантических источников. В ю.-слав. говорах этот тип отношений демонстрируют семантические спектры специфического ю.-сл. корня мрс- жирный и корня пост- постный , развивающих вторичные этические значения, а также ю.-слав. продолжений корня благ-, исконно имеющего сакрально-ценностное значение и вторично развивающего семантику пищи. Предлагаемое исследование состоит из двух семантических «очерков», посвященных смысловым транформациям корней мрс- и пост- и корня благ-. Описание семантики этих корней сопровождается резюмирующим коммментарием, в котором выделяются основные области синонимии корней благ- и мрс-, а также другие случаи изофункциональности вторичного использования знаков, выражающих этическую и пищевую семантику. Мрс- и пост-. Круг пищевых значений корня мрс- захватывает весь ю.-сл. ареал. Корень мрс- во всех в ю,- ел. говорах обозначает признак скоромный, жирный , образующий, наряду с постным , важнейшую культурную и языковую оппозицию, на которой базируется народное представление о пище ср.: «народ делит пищу на посну имрсну» (Ъор1)евил 1958, 113).
Пищевое значение корня myrs- представляет собой ю.-сл. диалектное явление, семантический источник которого неясен. ЭССЯ высказывается по этому поводу следующим образом: «Гл. nibrsiti на -///, производный от основы, дальнейшие этимологические связи которой представляют затруднение. Учитывая по крайней мере значение путать, мешать с.-х., макед. мрсити мешать, путать , укр. омерсиутъся сбиться, спутаться , ... можно предположить вхождение в довольно развитое гнездо корня тъг (см. у нас passim), точнее, в данном случае - с расширителями mbrd-s-iti (см. далее mbrdati), что объяснило бы фонетические особенности (сохранность -s- в mbrsiti). Слово почти исключительно ю.-слав. Возобладавшая ярко ритуальная семантика - есть мясо, нарушая пост , - видимо, все-таки вторична и производна от загрязнять путать, мешать » (ЭССЯ 20, 253-254). И далее относительно слова тъг8ъпъ()ъ): «Прилаг., производное с суф. -ъпъ от гл. nibrsiti (см.). Ввиду очевидности оттенка осуждения непостной, мясной пищи, инновационного в семантическом и культурном отношении и коренящегося в христианском мировоззрении ... наиболее первобытное значение следует констатировать в н.-луж. проворный, скорый, быстрый marsny » (ЭССЯ 21, 7).
П.Скок также возводит значения есть скоромное и путать к единой основе: заблуждаться, пачкаться нарушать пост бросить, уничтожить нечто запутанное (Skok). По другой этимологии, наименование nibrs- скоромный омонимично тъгв- мешать и связывается с smbrd- I smord- смердеть , далее по схеме нечистое, скверна жир мясо, употребляемое во время поста (Куркина 1981, 18).
Для большинства с.-х. говоров основным значением корня мрс- следует признать жиры животного происхождения , к которому закономерно восходят значения жир вообще, в том числе растительный и запачканный жиром : мрс жирная пища (Станин): спремща сам си убав мрс за зиму я заготовил себе на зиму хорошего жира (т.е. сала и пр.) (Митровил); жир : домаНица га join jeduoM погледа, omupyhu му паж/ъиво мре из раштркапе браде хозяйка на него еще раз посмотрела, аккуратно вытирая жир с его всклокоченной бороды ; жир, из которого варят мыло (РСАНУ); премрсим положить слишком много жира (Митровип), мрсначко не очень жирное ; мрсник человек, который ест очень жирное : он je такъв мрсник да jеде живу сланину кад кола світу он такой мрсник, что ест сырое сало, когда закалывают свинью (Златановиїі); мретина жир (Радиїі), mrsan жирный (Jurisic): сир Joj мрсан ка скоруп у нее сыр жирный, как каймак (Тгупип), содержащий жир : мрсна 6oja масляная краска (РСАНУ), покрытый жиром; вообще испачканный, вымазанный : мрсни суди сви се maj дан перу жирную посуда в тот день все моют ; у мрспим ха/ьинама в засаленной одежде (РСАНУ); мрсне руке жирные, грязные руки : вуна мрспим рукама предена шерсть, которую пряли жирными руками (RJAZU), омрси запачкать жиром : немо) да омрсиш myj mencujy не смей пачкать этот противень (Чемерикий); мрсан жирный, нечистый, тот, который не может быть употреблен в пост : мрсан (лонац, jeno) относящийся к мясной, жирной пище (Карацип); мрсан толстый, откормленный, ожиревший : мрсан ти je oeaj eenpuh жирный у тебя этот кабанчик (Крагуевац - РСАНУ); мрс подкожные жировые наслоения у животных (Лужница - РСАНУ).
На западе ю.-сл. ареала корень мрс- преимущественно фиксируется со значением мясо , что соотносится со «скоромностыо» католического поста, в который запрещено есть только мясную пищу: чак. mrs Fleishspeise , мясные изделия ; mrsan жирный, мясной , mrsno jice мясная пища, мясное блюдо (Hraste, Simunovic), mrs свинина (Usmene pripovijetke 1997, 483); словен. mrsiti есть мясо во время поста , mrs мясная пища, приготовляемая к приходу гостей (Bezlaj). Однако и вне сферы влияния этого культурного фактора дериваты корня мрс- тяготеют к выражению семантики плоти, телесных тканей: мрсо/ъак кожный нарост в форме рога на голове у индюка (Темнил - РСАНУ). Молочные продукты как самостоятельный денотат обозначаются дериватами корня мрс-, как правило (за исключением говора ускоков (Станин)), только с конкретизирующим определением: бели, млечни мрс (РСАНУ), ималю біуелога мрса доста (Тгупип), а если подпадают под это 74 наименование, то вместе с мясными продуктами: мрс общее название для жирной пищи: мясо, каймак, сыр : имапу зимує мрса доста, закла сам два вепра и jedny краву, а друга крава he дават по мало млгуека у меня на зиму будет много мрса, я зарезал двух свиней и одну корову, а вторая корова будет давать понемногу молока (Тгупип).
В ю.-серб. и болг. говорах у дериватов корня мрс- встречается значение плотоядное животное : мрсник собака, питающаяся только жирной пищей (Враіье - РСАНУ); мрспгща медведь, питающийся животной пищей : мрсница je мечка што je окусила меса животиіьског мрсница - это медведиха, которая попробовала звериного мяса (Пирот - РСАНУ).
В некоторых восточно-герцеговинских говорах слово мрсити имеет значение давать скоту соль (Станин): има ... нетто соли што je претекло кад сам мрсила овце осталось не много соли после того, как я мрсила овец ; овце у сну мрсити (давати им соли) значи да hem много npujame/ьа степи овец во сне мрсити (кормить их солью) означает, что у тебя будет много друзей , уочи Благовщести неки мрсе стоку биелим луком и соли накануне Благовещенья, бывает, что кормят скот чесноком и солью (Герцеговина, Златибор -РСАНУ).
Этическая семантика соматизмов в сербохорватских говорах
Моделирование окружающего мира по подобию человеческого тела относится к одному из базовых средств языковой интерпретации действительности, что обусловило колоссальную семантическую потенцию и донорскую продуктивность соматизмов, наложивших свой отпечаток на самые различные группы лексики, от предметной до абстрактной. Естественно, что и этические оценки, в которых «человеческий фактор» особенно ярко выражен, формируются именно в сфере анатомии, путем отождествления этических понятий с определенными частями тела.
Особенности соматической интерпретации нравственного определяются противопоставлением внутреннего и внешнего, нравственно-религиозного и социального, которое лежит в основе традиционной этической системы. Наличие двух оценочных систем, субъектом первой из которых является Бог, а второй - люди, отчетливо осознается народной традицией и широко отражено в славянской паремиологии: нит се Бога 6oju, нит се од луди срами ни Бога не боится, ни людей не стыдится (Елезовип); преступив си све законе, и /ьуцке и боже нарушил все законы и человеческие, и божеские (СтаниЬ.); не треба ни богу, ни свиту не нужен ни Богу, ни миру пропащий человек (Peic, Baclija). Божий суд интерпретирует негативные действия как грех, а людской - как позор, устойчиво противопоставляемые в пословицах: ср. с.-х. од луди срамота, од Бога грехота, русск. перед Богом грех, перед людьми сором (Даль, sv сором). Стыдное противопоставлено греховному не только по субъекту оценки, но и по симптоматике: оно тяготеет к внешнему выражению (Арутюнова 1997, см. также обзор работ о концепте стыда на стр. настоящей работы) и внешнему наблюдению (ср. русск. не стыдно, коли не видно), в противоположность греху, коренящемуся внутри человека, являющемуся объектом его внутренней рефлексии и подчас ведомому одному Богу. Заслуживают внимание формулы, выражающие параллелизм устройства этической системы и строения человеческого тела, в которых анатомическое пространство разделяется: честь и стыд проявляются через внешнего человека - лицо и глаза, а грех - через внутреннего - душу: fyeje образ myje и душа, utmoje срамота то je и грехота где лицо, тут и душа, что позорно, то и грешно (Букове пословице 1996, 84). Соматическая интерпретация «внутренней» этики носит наиболее регулярный характер, ее категории универсально, в том числе и за пределами славянского языкового пространства, связываются с такими органами, как душа и сердце. Подробно касаться вопроса анатомического кодирования «внутренней» этики вследствие его хорошей изученности (Ристип, Радип- Дугошип 1999, 155-211; Урысон 1995) мы не будем. Отметим лишь, что внутренние этические «органы» входят в парадигму понятий добро и зло, формируя абсолютный нравственный облик человека, а не его соответствие нормам приличия или этикету; они являются индикаторами милосердия, добродетельности их обладателя: душа добрый, отзывчивый человек (Peic, Baclija), благородство (Станин), бит без срца не быть отзывчивым (Peic, Baclija), cmehu душу «приобрести» душу , изгубити душу потерять душу , 1)аволу душу поклонити подарить душу дьяволу (Ристип, Радий-Дугон?ип 1999, 197).
Существенно реже обращают внимание на анатомическое кодирование «социо-оценочных концептов, регулирующих отношение человека к другому» (Арутюнова 2000, 56-57), а именно чести, достоинства, позора, стыда, срама. Эти понятия обслуживают поведенческий кодекс, сформировавшийся в сословном обществе, в основе которого лежит идея суда, выносимого человеку другими людьми за социально унгокающии, неприличный поступок или облик, наносящий вред его репутации. Полем взаимодействия судьи и судимого становится, естественно, не внутреннее пространство человека, как при диалоге с Богом, а наружная поверхность тела, граница, отделяющая человека от внешнего мира - лицо и глаза.
С формальной (деривационной) точки зрения прилагательные с основой bezok- I bezoc- и bezcel- представляют собой регулярные для праславянской лексики сложения префикса bez- и анатомических терминов, обозначавшие признак отсутствия у человека или животного какого-либо органа, ср.: beznogb, beznosb, bezpalb, Ьегихъ (ЭССЯ). В процессе семантического развития у целого ряда анатомических сложений с bez-значение отсутствия некоторой части тела трансформировалось в оценочное значение невыполнения им его прототипических функций: лишенный головы не умеющий рассуждать , лишенный руки не имеющий трудовых навыков : bezgolvb безрассудный , Ьегткъ неумелый (ЭССЯ). Сходный семантический путь прошли слова с основами bezok- I bezoc- и bezcel-. Первоначально отсылавшие к области телесных аномалий (ср. русск. ц.-слав. безочивый безглазый , с.-х. безок безглазый, кривой (ЭССЯ)), данные основы приобрели семантику отрицания функций соответствующих частей тела - глаз и лба. Так, основа bezoc- стала использоваться для обозначения слепоты, неспособности смотреть, ср. русск. безочесный, безочный слепой, незрячий (ср. безглазый в том же значении) (Даль), польск. bezoczny, bezoczy слепой (ЭССЯ). Этическую семантику основ bezok- I bezoc- и bezcel- сформировало, однако, особое назначение лица и его частей47: внешнее выражение внутренней жизни человека, прежде всего чувства стыда и чести (ср. глаза - зеркало души; с.-х. noenedaj ме у очи, да видим лъжеш ли посмотри мне в глаза, чтоб я увидел, не лжешь ли ты ; по око га познавам я это по глазам вижу (Форски, sv око), а также доброе лицо, умное лицо, сердитое лицо и т.д).
Концепт доброго дела в контексте сербохорватской народной этики
В отличие от христианской этики, противопоставляющей греху добродетель, т.е. положительные человеческие качества, народная мораль не подвергает положительной религиозной оценке внутренние свойства человека. Для народной культуры гораздо более актуальна идея доброго дела (ср.: с.-х. книжн.-церк. врлгша добродетель известно народным говорам и разговорному литературному языку только в нерелигиозном значении доброта, достоинство (КарациЙ; МС)), противопоставленная понятию грешного поступка 53.
Сербохорватский языковой образ доброго дела складывается из нескольких культурных и хронологических пластов, манифестируемых различными способами номинации этого понятия в народных говорах. Наиболее широко - географически и стилистически - распространены наименования этого понятия с помощью синтагмы добро дело и дериватов корня добр-: Je I te majko и рако zapalo? //Като li ti mase I molitve, //Kamo li ti tvoja dobra djela? // Sto si ziva na zemlji cinila? Ты разве, мать, попала в ад? А на что мессы и молитвы? На что твои добрые дела, которые ты, когда была жива, совершала на земле? (Broz, Bosanac 1896, 23); добротина (Елезовип), доброта (Витезовип - RJAZU), добро, добрените (Верковип, 8) доброта, доброе дело .
Помимо этой общеславянской номинации, выражающей общую положительную оценку совершаемого, в сербохорватских диалектах для обозначения добродетельных поступков используются еще две лексемы, специфика внутренней формы и семантики которых формирует своеобразие языкового видения добродетели в данной традиции.
В областях, испытавших сильное воздействие турецкой культуры -Боснии, Герцеговине, Черногории, Сербии и Косове, - укоренился ряд турецких слов, обозначающих добродетельные деяния, самым распространенным из которых является лексема севап доброе дело, заслуживающее божьей награды; награда за доброе дело , восходящая через тур. sevab с тем же значением к араб, tawab (Skaljic). В толковании этой лексемы заслуживает внимания указание на субъекта оценки человеческих поступков, иногда эксплицитно выраженного в тексте в виде атрибута «божий»: за божи севап (Елезовип), а также результат этой оценки, за которым стоит представление о боясьем суде, после смерти ожидающем душу, и ее загробной участи. Человек творит на земле добрые дела, чтобы после смерти его душа могла оправдаться перед Богом, «снискать его милость» (Станин, sv осевапити се) и получить место в раю. Именно с такой внутренней формой - «получить душе место» - встречается идиома, которая выражает оценку человека, делающего добро: maj кто заботится о сиротах добива души Mjecmo (Bogisic, 369), синонимичная мотивированному словом севап глаголу осевапити се сделать доброе дело, снискать божью милость, ухватити души место (Станип). Отсюда происходят причинные конструкции, содержащие слово севап как обозначение побуждения к действию: добро je, кад je за севап, dahy ти ладно, раз «за награду», «в качестве богоугодного дела» дам тебе (Митровиїї); црквица Св.Иліуе на старинском гроб/ьу, щу je «себапа» ради обновио jedau се/ьак часовня св. Ильи на старинном кладбище, которую ради «богоугодного дела» восстановил один крестьянин (Филиповиїі 1939, 89).
Мотив спасения души заложен и во внутренней форме славянского синонима севапа слова задужбина, производного от формы за душу: «никакой материальной награды за это не бывает, потому что это делается за душу, за душату си прегледва сиромат му, сирачита за душу приглядывает за бедняками, сиротами (Bogisic, 370). Это слово, насколько можно судить по имеющимся материалам, употребляется в западных и северо-западных говорах (Хорватия, Воєводина), где отсутствует слово севап, тяготеющее к юго-востоку (показательно в этом отношении пояснение замечательного хорватского этнографа Богишича: «в Черногории и Герцеговине считается, что это большой севап, т.е. задуэюбина-» (Bogisic, 313)), а также в Сербии, где оно в говорах выступает как синоним слова севап (Карацип), а в фольклоре маркируется как элемент языка духовных стихов.
Рассмотренное «наивное» восприятие добродетели как совершение добра в ожидании посмертного воздаяния подтверждается фольклорными и этнографическими источниками54, раскрывающими содержание понятия добродетели, т.е. круг действий, которые признаются заслуживающими высокой религиозной оценки и способствуют спасению души на том свете.
Замечательный собиратель сербского фольклора В.Караджич, сам носитель народной традиции, в своем этнокультурном словаре сербского языка приводит следующий перечень добрых дел, редкое и исключительное свидетельство народного представления о морали, квинтэссенцию сербского учения о добродетели или благотворительности: "Самая большая задужбина -построить монастырь или церковь, как строили сербские цари и крали; потом задуэ/сбина - построить мост через какой-нибудь водоем или лужу, замостить плохую дорогу, подвести воду и сделать рядом с дорогой источник (это называется градити строить и начинити устроить себе задужбину); посадить или привить дерево у дороги, голодного накормить, мучимого жаждой напоить, голого одеть (это называется чинити делать или учинити сделать задуэюбину) и т.д. " (Карацип, sv задуэюбина).
В настоящий перечень вошли все наиболее значимые элементы положительного сценария народной этики. Каждое из упоминаемых в списке действий, как и объект, на который оно направлено, имеет ключевой характер для сербской традиции и функционирует в целом ряде вербальных и невербальных текстов этой культуры, что мы и попытаемся показать.
Постройка церкви или монастыря, как и пожертвования на благоустройство обителей, как известно, в культуре христианского мира, рассматривается как большое богоугодное дело, за которое даритель или ктитор удостаивается предстательства церкви перед Богом. Сербская средневековая традиция дает множество примеров основания монастырей членами царствующих семей. Эти монастыри в народной и книжной традиции именуются задужбинами соответствующих правителей: монастырь Студеница известен как задуэюбина основателя средневековой царской династии Стефана Немани, Жича - его сына Стефана Первовенчанного, Лазарица - князя Лазаря, погибшего на Косовом поле и т.д. (ср приведенную выше цитату). Такая же аксиологическая установка характерна и для народной сербской культуры. К постройке или восстановлению церкви прибегают в случае каких-либо неблагоприятных обстоятельств, в разрешении которых надеются на божью помощь: «часовню св. Ильи на старинном кладбище отремонтировал один крестьянин ради себапа богоугодного дела, т.е. «по завету» , поскольку у него не было сыновей» (Филиповип 1939, 89). Образ церкви как «прототипического» богоугодного дела вошел и в пословицы: jedny цркву кварити а другу градити слаба je задуэюбина одну церковь ломать, а другую строить -плохая задуэ/сбина (Карацип 1996, 123).
Концепт греха в контексте сербохорватской народной этики
Оценка грех представляет собой ядро обширного текстового поля, формируемого многочисленными и разнородными культурными текстами, воплощенными в различных языковых и фольклорных формах, и образующих тот семантический контекст, который позволяет восстановить содержание данной оценки (о характере этих текстов см. Введение, 2). Сигнификативный компонент ее значения, отраженный в способе первичной мотивации слав. grechb65, можно описать как отклонение от религиозной нормы, нарушение66 . Семантический признак отклонения от нормы (с поправкой на характер нормы - анатомической, истинностной, правовой и др.), лежит в основе лексических значений и других многочисленных оценок, порождаемых корнем grech-, подробно рассмотренных в 1 главы I и составляющих «семантический» контекст религиозного значения. В с.-х. говорах в квалифицирующей функции слово грех употребляется редко: немо тако, zpujezje не надо так, это грех ; mije гри]ег радити него не радити не грех работать, а грех не работать (Станиїї); гре je то што чинши то, что ты делаешь, грех (Чемерикип). В с.-х. языке, как и в других южнославянских языках, эту функцию выполняют продолжения слав. grechota. Ср.: грота muje да газиш ту сиротшьу грех - обижать бедных (Станин); Ел те не греота од Бога тека да работиш? не грех ли это перед Богом, что ты так поступаешь? (Динип 1988); немо]те луди, гри]ота je од Бога не надо, люди, перед Богом грех (Peic, Baclija) и т.д. В бытовых квалифицирующих контекстах, цель которых воспрепятствовать совершению того или иного действия, оценка грех или грехота часто заменяются на рекомендацию не вала се61 нельзя, не следует, не годится . Как правило, в диалектной речи слово грех выражает семантику неправильного действия {учинити грех совершить грех )6 . В этом, как и в предыдущем значении, ему синонимичны книжные лексемы безакоіье и иезаконство, характерные исключительно для фольклорного языка. У HuJjuju тешко безакоуье: // не пошту}е Miiatjii cmapujeza,// не слушсуу \)еца родитела, // родители пород погазили В Индии тяжкое беззаконие // не уважает младший старшего // не слушают дети родителей // родители не заботятся о потомстве (Караний II, 1). Од Eozaje велика грехота, // а од луди зазор и срамота // да грабимо ова безакогъа Перед Богом большой грех // а перед людьми стыд и позор // совершать эти беззакония (Карацип 1898а, 2)69.
Слово грех часто служит эвфемистическим обозначением нечистой силы: zpujex дьявол (BojaHHii): пролетос донесе zpujex jednoz Бр1)анина у село да eepecuja шумадинско свиїье прошлой весной принес дьявол одного горца в деревню торговать шумадийскими свиньями (КСАНУ), гришина дьявол (Jurisic), грих бес : у тон дитету били гриси canyeaj Боэюе... То се бите кривило, мучило, ла]ало, стра je било гледат и слушат. Она би ї)авлииа сваке би миракуле (чудеса) чинила од онога биднога малога... в этом ребенке было бесов, Боже сохрани...Ребенок кривился, мучился, лаял, страшно было на него смотреть. Этот дьявол какие только штуки не вытворял с бедным малым (КСАНУ). Такое семантическое развитие религиозной оценки мотивировано представлением о дьявольской природе греха, к которому человека склоняет сатана (Миличевип 1984, 51): а ако када щу zpuj наведе то обычно затешча с отш момком, за щ ег he nohu а если когда какую дьявол толкнет, то обычно забеременеет от того парня, за которого пойдет (КСАНУ). «Когда человек начнет грешить, ангел грустит и плачет, дьявол же радуется и говорит ангелу: «Мой!» (Миличевип 1984, 51) .
Данная семантическая деривация представлена в клишированных апотропейных формулах, с помощью которых человек отсылает от себя злую, вредоносную силу, типа nol)u zpujeiue од мене уйди от меня, грех (Вукове пословице 1996), ср. бедо, itecpeho, нево/ъо иди од мене беда, несчастье, напасть иди от меня (АА, записано от Гор даны Умичевич, с. Бешка, 2001). В этом же значении слово грех выступает в эмоциональных контекстах типа zpuja! зла! нево/ъе! как плохо, какое несчастье, какая беда! (Станиіі). Ср. пек. грех о ком, чем-либо приносящем неприятность, напасть (при выражении досады) , а также несчастный случай, беда (главным образом, пожар) (ЭССЯ).
Грех ссора, гнев : zpujex у купи значи и инад, ceaJ)e, несклад, приговори. грех в доме значит и капризы, ссоры, разногласия, упреки ; ако га у воду накиселиш и рад лана буде стра, скривагьа и zpuja, па веле /ьуди, зашто би? если его в воде намочишь и из-за льна будут и страхи, и утаивания, и грехи, говорят люди: зачем? (Оток) (РСАНУ). Ср. русск. грех ссора, раздор , спор (ЭССЯ). Вероятнее всего, что данная семантическая деривация является проявлением того же содержательного аспекта оценки грех, что и два предыдущих значения ( грех - бесовское, злое ).
В черногорских говорах широко распространены глагольные дериваты корня грех-, выражающие значения получить вред ( настрадаться , намучиться и пр.) и причинить вред ( обидеть кого-либо , причинить 134 кому-либо зло ). Ср. огрщ ешит настрадаться, намучиться (обычно о слабом, немощном) , умереть (от болезни или трудностей) : ozpujeiuu ово dujeme данас од глади ребенок сегодня чуть не умер с голоду , ozpujeuaihe ми дома она баба сама, не може ни ужицу сама noduh трудно придется бабушке дома одной, она не может и веревки сама поднять ; ozpujeiuuhe му они старци на ону самоштину настрадаются старики в одиночестве ; не dajme да она neejecma данас на гроб/ье ozpujeiuu не допустите, чтобы молодой сегодня на кладбище плохо стало ; огрщешипа je, ]адтща, од муке и сиротшъе настрадалась, бедная от скорбей и бедности (ггупип), dujeme ми ozpujeiuu босо босой, ребенок намучился , ozpujeuanue ми Ijeija ваздан гпадна дети сегодня настрадались, голодные (Сти]овип). В возвратной форме этот и другие, мотивированные корнем грех-, глаголы при обязательном заполнении семантического места адресата действия выражает семантику нанести вред, сделать кому-либо плохо , обидеть . Ср.: огрщешит се поступить несправедливо по отношению к кому-либо : ozpujeumini сте се према ономе старцу, врнуНе ви се то, боим се вы плохо поступили с эти стариком, боюсь, что это вам вернется . Немо се огрщешит о ту fyeeoJKy, сирота je не делай плохо этой девушке, она сирота (ггупип), огрщ ешио си се о оног сиромака ты причинил зло тому бедняку (Станин); грешити се некоме обижать кого-то : и да се он hboj не грщеши чтобы он ей не делал плохо , што се мртвим грщешиш xajdyKOM? что ты обижаешь мертвых гайдуков (RJAZU), грешити се о некога причинять кому-либо зло : кад се грщешите о браНу, о Христа се грщешите когда вы причиняете зло братьям, вы причиняете зло Христу , (Станин), не грщеши се од овог старца daj му каву да пщ е не обижай старика, дай ему кофе выпить (Ву)ичип).