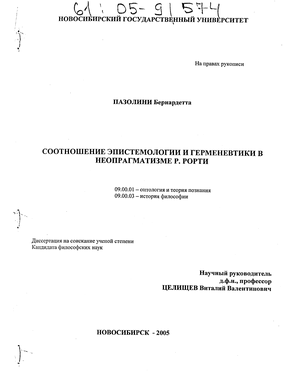Содержание к диссертации
Введение
ПЕРВАЯ ГЛАВА: На стыке эпистемологии и онтологии 10
1.1. Хайдеггер: превосходство онтологии над эпистемологией 16
1.1.1. От феноменологии к онтологии 17
1.1.2. От экзистенциальной аналитики к развитию онтологии после «поворотного момента» {Kehre) 20
1.1.3. История бытия и забвение онтологического различия 25
1.1.4. Слушание бытия в языке 26
1.2. Эмпиризм и его догмы 30
1.2.1. Две догмы эмпиризма 31
1.2.2. Процесс натурализации эпистемологии 33
1.2.3. Онтология Куайна 35
1.2.4. Вклад прагматизма в эпистемологию 39
1.3. Дебаты по герменевтике: Гадамер и Хабермас 45
1.3.1. Основные направления дебатов между Гадамером и Хабермасом 45
1.3.2. Философия как герменевтика 48
1.3.3. Философия как критическая теория социального действия 53
ВТОРАЯ ГЛАВА: Эпистемология и герменевтика в свете рортианского неопрагматизма 60
2.1. Критика мифа о данности 61
2.1.1. Аргументация критики мифа о данности. 62
2.1.2. Антиреализм, натурализм и нередуктивный физикализм 65
2.1.3. Вопрос объективности 68
2.1.4. Роль эпистемологии 70
2.2. Критика разума как репрезентации 73
2.2.1. Антирепрезентационизм 76
2.2.2. Теория истины 78
2.2.3. Номинализм 82
2.2.4. Релятивизм 84
2.3. Толкование как историческое конструирование 87
2.3.1. Случайность языка и человека 88
2.3.2. Историзм и этноцентризм 91
2.3.3. Герменевтика и холистическая перспектива 97
2.3.4. Значение и роль метафор 100
2.4. Роль философии в современном мире 103
2.4.1. Общественный либерализм, социальный оптимизм, частная ирония 106
2.4.2. Частное и общественное: проблема воспитания 111
2.4.3. Роль левых в массовой демократии 115
2.4.4. Светская религия 118
ТРЕТЬЯ ГЛАВА: Дебаты между эпистемологией и герменевтикой в Италии 122
3.1. Значимые периоды философии науки в италии 127
3.1.1. Недавние достижения натурализма в Италии 131
3.2. Дебаты по герменевтике в Италии 138
3.2.1. Герменевтика как ослабление бытия 143
3.3. Новые перспективы в итальянской философии 147
3.3.1. От герменевтики к прикладной онтологии 150
Заключение 154
Список литературы 163
- От экзистенциальной аналитики к развитию онтологии после «поворотного момента» {Kehre)
- Основные направления дебатов между Гадамером и Хабермасом
- Общественный либерализм, социальный оптимизм, частная ирония
- Недавние достижения натурализма в Италии
Введение к работе
Актуальность темы. В философии последних тридцати лет появились новые философские проблематики и названия, термины, такие как «пост-философия», или «поп-философия», которые не только вошли в лексикон многих философов, но и используются журналистами и интеллектуалами. Новые идеи возникли в результате обмена между различными философскими традициями, которые с конца 50-ых годов начали группироваться под названием «аналитическая» и «континентальная» философии. Употребление этой понятийной пары можно считать до сих пор пригодной для рассмотрения общего международного фона современной философии. Первая группа является переплетением философских течений, берущих начало в эмпиризме, а второй термин объединяет разнообразие и разнородность европейской философии, в которой герменевтика играла решающую роль.
Долгое время, в обсуждении традиционных философских проблем, эти направления находились в конфликте друг с другом, или же просто игнорировали друг друга. Только в последние десятилетия наблюдалось между ними взаимодействие, на развитие которого неоспоримое влияние оказывал неопрагматизм, особенно Р. Рорти, чьи произведения были своевременно переведены на многие языки и получили большой резонанс в международном философском контексте. Его реакция против укрепления позиции аналитической философии в американских вузах способствовала распространению герменевтики в американской среде и развитию диалога между аналитиками и континенталами на международном уровне.
Актуальность сопоставления вышеупомянутых направлений порождается также констатацией, что Соединенные Штаты до сих пор являются страной, которая больше всего инвестирует средства в исследования, что привлекло внимание многих европейских и российских философов к американскому контексту. Аналогично, новые заокеанские тенденции обнаруживают явственную связь с некоторыми европейскими философиями.
Кроме того, складывается впечатление о том, что результатом изменений в отношениях между аналитиками и континенталами стало превалирование в философском контексте позиций, объединенных в радикальный отказ от поиска оснований, и что окончательно исчезла возможность постановки вопроса о достижении достоверных знаний.
Степень разработанности темы.
Неопрагматистскую, аналитическую и герменевтическую концепции активно разрабатываются в научной литературе многих стран. В Италии и России в последнее
5 десятилетие этим направлениям посвящены монографии и статьи, написанные авторами, которые принадлежат разным традициям. В российской научной литературе наблюдается превалирующий интерес к аналитической философии, которая представляет собой возможность строгого исследования реальности, и обещает получение достоверных результатов в конце познавательного процесса. Интерес к герменевтике более ограничен, но стал возрастать в последние годы; ограничено в России и число тех, кто обсуждает вопрос об отношениях между аналитиками и континенталами. Что касается итальянской разработки последней проблемы, наблюдается долгое промедление в осознании ее важности, которое поправилось только публикацией монографии по этой теме Ф. Д'Агостини в 1997 году. В связи с долгим превалированием гуманистской и идеалистической традиций над традицией философии науки, сегодня в Италии к герменевтике относятся знаменитые во всем мире философы, такие как Дж. Ваттимо и У. Эко, в то время как к группе эпистемологов принадлежат менее известные философы.
Диссертационное исследование основывается на произведениях Р. Рорти, которые были рассмотрены, как аналитиками, оказавшимися перед кризисом образа строгих знаний, так и герменевтами, находившими в поиске нового образа философствования. Прагматизм отличается концепцией познания, которая считает сферы социальной и политической жизни основными объектами философского труда. Ч. С. Пирс предложил метод для установления значений, метод, не имеющий ничего общего, как с картезианскими критериями ясности, так и с конвенционализмом номиналистов; его «прагматистское правило» состояло в утверждении необходимости изучить все возможные последствия высказывания или понятия на протяжении долгого периода для понимания их значения. Все неопрагматисты также ссылаются на работы Дж. Дьюи, хотя и расходятся во мнениях по некоторым вопросам, таким как, например, реализм и номинализм, релятивизм и универсализм, и так далее.
Сочтя постановку традиционных философских вопросов не пригодной для их решения, Рорти предложил использовать термин «пост-философия» для философствования, подверг критике понятия «репрезентации», «истины», «объективности» и уделил особое внимание тем мыслителям, чей стиль является менее философским.
Произведения Рорти вызвали большой интерес представителей итальянской герменевтики, с которыми Рорти наладил хорошие контакты и начал рутинный разговор о роли и задачах философии. В Италии, с одной стороны, рортианский неопрагматизм воспринимался как «гуманная философия», которая считает философа человеком своего времени и гражданином своего государства, на смену названию «мудрец», веками отличавшему его в академических кругах. С другой стороны, некоторые подчеркивали,
что подчас в утверждениях Рорти дискредитируется сама философия, поэтому они отмежевались от его концепции. На самом деле, для него дело не в устранении философии, а в ее освобождении от перегруженности лингвистических наростов. В рамках разработанного аналитиками вопроса о познании, особую позицию занимает У. О. Куайн, чьи выступления под влиянием прагматизма дали начало переосмыслению постулатов и «догм» эмпиризма. Вслед за ним, У. Селларс, Д. Дэвидсон и сам Р. Рорти пересмотрели основания научного познания и сосредоточились на общественном характере языка, который определяет любую речь. Предложение Куайна «натурализовать» эпистемологию, основанное на убеждении в тесной «связи» между наукой и философией, инициировало тенденцию к натурализму, согласно которому философам стоит сконцентрировать внимание на исследование «натуральных» аспектов познавательного процесса. Определение списка «натуральных аспектов» до сих пор обсуждается, вместе с определением способов реализации процесса «натурализации».
Объектом исследования является неопрагматистское видение герменевтики и эпистемологии.
Предметом работы является сравнение концепций познания, языка, толкования, роли и задач философии в рортианском прагматизме, в эпистемологии и в герменевтике.
Цель диссертационной работы - это исследование рортианского рассмотрения аналитического и герменевтического подходов к вопросам о познании, о взаимодействии науки и философии, о функции языка и о роли философии в современном мире. Реализация поставленной цели подразумевает выполнение четырех задач:
Рассмотрение новаторских позиций в рамках аналитической философии и герменевтики, с которыми рортианский неопрагматизм вступил в диалог о познавательном процессе, о толковании традиции, о функции языка и о социальной роли философии.
Выявление причин взаимопроникновения аналитической и континентальной философий, по которым развивались дебаты по релятивизму, реализму и скептицизму.
Сопоставление неопрагматистского, герменевтического аналитического подходов к социальным проблемам современности, задача, в которую входит и анализ дискуссии о философствовании, как о деятельности, имеющей практическую или научную цель.
Рассмотрение итальянского вклада в международные дебаты по вышесказанным вопросам, и итальянского освоения достижений эпистемологии и герменевтики.
Методологические основы исследования. С целью введения в рассматриваемую проблематику используется историко-философский анализ отношений между аналитической и континентальной философией. Работа построена на сопоставлении концептуальных аппаратов анализа неопрагматизма, герменевтики и эпистемологии; особое внимание уделяется анализу соответствующих концепций репрезентации, истины, языка, толкования, философии и т.д. В выборе тематик и авторов, рассмотренных в первой главе, мы руководствовались критерием выявления философских выступлений, которые привели к значительному пересмотру традиционных философских вопросов и ознаменовали начало взаимодействия между аналитической и континентальной философией. Во второй главе из огромного числа выступлений Рорти особое внимание отдано самым недавним его работам. В связи с важностью его критики некоторых понятий мы использовали сравнительный анализ его высказываний с позицией его соперников. Рассмотрение итальянского философского контекста в третьей главе соответствует выделенным в предыдущих главах тематикам и вопросам.
Научная новизна и конкретные результаты исследования содержатся в следующих положениях, которые выносятся на защиту:
Выделена своего рода «шизофрения»1, или неразрешимое противоречие между повседневным опытом, развивающимся на основе считающихся несомненными верований и убеждений, и рациональностью, которая постоянно подрывается сомнением и неуверенностью в собственных результатах. С одной стороны, скептицизм представляет собой нерешенную проблему современной философии, а с другой, все действуют, следуя принципу, что можно принять то, в чем невозможно удостовериться. Приняв картезианскую предпосылку, что разум может быть либо безличным, универсальным и нейтральным, либо его вовсе нет, эпистемологи способствовали скептицизму, а герменевты и прагматисты отвергли саму возможность рациональности и отстаивали нигилизм. Следовательно, было утрачено значение самого разума, его способность познавать совокупность аспектов реальности, сформулировать гипотезы, идти на риск толкования и постоянного исправления собственных гипотез.
Выявлена необходимость восстановить альтернативное значение термина «репрезентация», как «знака», или «вещи», отсылающей к другой вещи, значение, которое было утрачено из-за произошедших философских дебатов между аналитиками и
1. Термин используется в своем этимологическом значении, состоящем vaschizo, рассекать, раскалывать nphrenos, ум, душа.
8 континенталами. Прагматисты, герменевты, а также аналитики, несмотря на их более или менее резкую критику репрезентации, не предложили замену значения «зеркального отражения», которым Декарт и Кант наделили репрезентацию. Понятие репрезентации как «знака» предполагает изначальное и органичное единство повседневного опыта и разума, который в состоянии принять опыт к сведению и переработать его. Познавательная деятельность включает толкование возникающих в опыте знаков, которое, в свою очередь, представляется как постановка гипотезы и пользуется различными формами рассуждения.
Вычленены противоречивые утверждения неопрагматистской концепции Рорти: а) его уверенность в прогрессивной истории человеческого рода противоречит, как его призыву всегда учитывать случайность любого словаря, так и его казуалистской концепции мутации метафор, которыми определяется культурный прогресс; б) его стремление наделить людей наибольшей властью и творческими лингвистическими способностями противоречит его концепции человека как плода более или менее развитых причинных связей (триангуляции), сеть, в рамках которой самосознание является второстепенным и случайным явлением; б) детерминированность деятельности человека противоречит предложенной Рорти схеме обновления практической, социальной, этической и политической жизни, в основе которой лежит лишь волюнтаризм индивидов; г) рортианская апология иронии сочетается с признанием вредности воспитания молодых поколений в духе иронии, поэтому он вынужден двойственно противопоставить частную и публичную сферы.
Проведен анализ итальянского философского контекста, в котором подтверждается возрастание интереса к аналитической перспективе, аналогично тому, что американские аналитики чаще обращаются к континентальной философии. Однако дебаты между аналитиками и континенталами не подходят к концу; выявлены также мотивы сложных отношений между ними, состоящие в каких-то случаях в простом незнании подходов друг друга к общим проблематикам, в других случаях в трудности чтения произведений друг друга, а иногда в личном соперничестве между академиками. Установлено также, что новая философская отправная точка, предложенная онтологами, привлекает всё больше внимание представителей обоих фронтов.
Научно-практическая значимость диссертационной работы. Полученные в диссертации выводы и многочисленные собранные материалы могут быть использованы:
- для разработки учебных курсов по философии познания, онтологии, антропологии, этике, и истории философии, или при чтении спецкурсов о неопрагматизме и об итальянской философии;
9 - для конкретизации и уточнения оснований метода «прикладной онтологии» и антропологических импликаций новой концепции рациональности.
Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на научных семинарах сектора Истории философии и Логики и теории познания Института Философии и Права СО РАН.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключении и списка используемой литературы.
От экзистенциальной аналитики к развитию онтологии после «поворотного момента» {Kehre)
Относительно аналитики этого пространственно-временного сущего {Daseiri), привилегированного, ибо в отличие от других сущих оно не только сущестствует-в (ш-siste), но и существует-вне (ex-siste), мы ограничимся кратким указанием лишь некоторых аспектов, в наибольшей степени относящихся к нашим размышлениям: тут-бытие - это «заброшенное-проектирование». Мы заброшены в жизнь, и в определенную историческую ситуацию; делая тот или иной выбор, мы несем с собой груз окружающей ситуации, т.е. нашей заброшенности (Geworfenheit). Аналитика тут-бытия в конечном итоге являет, что бытие, которое раскрывается посредством исследования устройства и смысла тут-бытия, в сущности, пребывает во временности, временности проектирующей и временности происходящей. Следовательно, онтологическое понимание является историческим: бытие всегда постигается в определенной ситуации, и это означает, что разъяснение бытия — задача бесконечная.
Вся экзистенциальная аналитика, описанная в первой части Бытия и времени, завершается высшей характеристикой человека, то есть «бытием-к-смерти». Эта категория определяет «подлинную жизнь», центральное место, в которой занимает тоска или страх перед небытием. Хайдеггер, говоря о бытии-к-смерти, хочет сказать, что составной характеристикой тут-бытия является конечность, в области которой количество лет ограничено, как ограничено количество решений, которые мы можем принять. Более того, решения, которые могут быть приняты, не только ограничены, но и исключают друг друга, и подчас необратимы. Вот почему существование является подлинным, когда оно исполнено тоской, порождаемой осознанием нашей конечности, и жизнь-к-смерти имеет в высшей степени позитивное значение. Существование устремлено во времени, в будущее время, поскольку оно по своей природе является проектированием. Прошлое может быть пережито нами как непреложный факт без тайных смыслов, или некое «поручение», то есть как судьбу. В понятии «истории как судьбы» Хайдеггер видит кратко изложенную природу трех аспектов (прошлого, настоящего, будущего), образующих время.
Установив, что смысл бытия - это временность, и что время представляет собой горизонт всякого понимания и толкования бытия2, Хайдеггер должен был бы анализировать общий смысл бытия в разделе озаглавленном «Время и бытие»; но он так и не написал его, потому что - как он сам объяснил позднее - в его мысли произошел «поворот» (Ке/гге). Все ученые согласны с тем, что в его мысли некий поворотный момент имел место: однако не совсем ясно, какого он был рода, и насколько радикальными были его последствия. Кое-кто утверждает, что Хайдеггер сороковых годов говорит совершенно отличное от сказанного им в тридцатые годы, но есть и тот, кто в русле толкования, которое сам Хайдеггер дает своей мысли, склонен рассматривать этот поворотный момент как незначительный и смутный. Согласно этой последней, преобладающей сегодня линии толкования, центральная проблема в философии Хайдеггера оставалась неизменной, менялись лишь средства, используемые философом в попытке разрешить ее.
В результате экзистенциальной аналитики обнаружилось, что бытие, познаваясь через тут-бытие, в конечном итоге, скрывается и заставляет себя забыть. Кроме того, Хайдеггер столкнулся с трудностью в оценке результатов из-за существенной ограниченности языка, которым они могут быть выражены: слова, которыми мы располагаем для того, чтобы говорить о бытие и о его смысле, мы унаследовали от истории метафизики, которая целиком основана на отрицании «онтологического различия». Более того, как сам Хайдеггер признал в Бытии и времени, никаких определений нет для того, чтобы в полной мере разъяснить онтологический уровень бытия. По этой причине многие мыслители рассматривали Хайдеггера как отправную точку для экзистенциалистских размышлений; но сам философ неоднократно заявлял, что его философия не была и не хотела быть экзистенциализмом, ни тем более гуманизмом. Придерживаясь всего сказанного до сих пор, можно согласиться с Хайдеггером, когда он говорит, что «поворотный момент» в его мысли не был столь радикальным: его цель оставалась всегда и в любом случае онтологической, и даже если в «Бытии и времени» превалирует экзистенциальная аналитика, то она остается лишь инструментом.
Суть вопроса состоит в ускользающем характере самого бытия: действительно бытие дает себя, желая заставить себя забыть. В трудах, последовавших за Бытием и временем, Хайдеггер для того, чтобы говорить о сути бытия, вводит новый термин: «событие» (Ereignis), выражение, которое появляется как в некоторых неизданных сочинениях 30-ых годов3, так и в последующем сборнике Неторные тропы. Речь идет о некоем происходящем случае, который одновременно является «заставить случиться», т.е. происхождением происшедшего. Этот случай имеет лингвистический характер, то есть является призывом, обращенным к слушанию человека. «Где нет языка, там нет никакого размыкания сущего», говорит Хайдеггер в Неторных тропах [62; 57]: таким образом, в конце онтологического изыскания бытие представляется в форме лингвистического призыва. Именно это является центральным принципом герменевтики, сформулированной Хайдеггером в Бытии и времени, к которому позднее вернулись другие специалисты по герменевтике (такие, как X. Г. Гадамер и П. Рикер). В последних произведениях Хайдеггера превалирует тенденция отождествить бытие и язык и охарактеризовать последний как поэзию или точнее как «поэтическую мысль».
Каково лингвистическое событие, которому мы должны внимать, лучше видно в произведениях, последовавших за Бытием и временем. В любом случае, если бытие - это событие, то мы никогда не сможем получить его исчерпывающее определение: сама фраза «бытие - это событие», предупреждает Хайдеггер, вводит в заблуждение [61; 105]. Следовательно, речь идет не о новом определении бытия, но о переосмыслении всей истории метафизики, являющейся, прежде всего, историей слов, в которых бытие постепенно являлось и одновременно скрывалось. Метод, использованный Хайдеггером для пояснения работы, которую необходимо проделать, и которую он определяет как «исследующий слушающий ответ» [63; 124], мастерски объясняется на лекциях, прочитанных им во Франкфурте между 35-тым и 36-тым годами, и опубликованных в 1950 году под заголовком Неторные тропы (Holzwege).
На первой из этих лекций, озаглавленной Происхождение художественного произведения, Хайдеггер сознательно рассматривает вопрос об искусстве с проблемной точки зрения, подрывая корни всех определений, которые обьгано ему даются. Поэтому рассуждение постепенно расширяется от искусства к средству, от мира к земле, и в результате приводит слушателей к тому, что действительно имеет большое значение для философа, то есть к бытию. Сам Хайдеггер в Приложении 1961 года к повторному изданию произведения, заявляет, что, говоря о происхождении художественного произведения, он на самом деле говорит о проблеме сущности бытия.
Говоря внешне об искусстве, а на самом деле о бытии, Хайдеггер говорит в конечном итоге о языке, как о месте, в котором бытие становится событием, открываясь самому себе и единственному сущему, способному понять его, то есть человеку. Суть вопроса находится в обсуждении сущности языка и поэзии, всегда имея в виду «взаимную принадлежность бытия и слова» [62; 69]. В чем состоит «взаимная принадлежность», выяснится в другой Франкфуртской лекции, посвященной изречению Анаксимандра.
Основные направления дебатов между Гадамером и Хабермасом
Прежде всего, необходимо отметить, что Ю. Хабермас изначально рассматривал философию Гадамера как преодоление позиции Хайдеггера и признавал его заслугу, заключающуюся в основополагающей интуиции относительно центральности языка. Это уточнение перемещало интерес философского поиска с онтологической плоскости на плоскость лингвистическую, что соответствовало критике бытия, выдвинутой Франкфуртской школой, к которой Хабермас принадлежал. Во вторых, другая причина, по которой Хабермас реабилитировал Гадамера, касалась полемики, развернувшейся в Германии со склонным к нацизму хайдеггеризмом. Заслуга Гадамера заключается в том, что он вывел «хайдеггеризм» за пределы немецкой традиции, освободил его от провинциальности, которая считает, что философия «думает только на немецком», и что наследие западной метафизики может реализоваться только благодаря вкладу германской Kultur. Подобная «урбанизация хайдеггеровской провинции»[158; 32], как называл ее сам Хабермас, стала причиной счастливой судьбы герменевтики, принятой не только в философских кругах, но и в сфере гуманитарных наук и в юриспруденции [160]. На самом деле высокая оценка, данная Хабермасом Гадамеру за его «урбанизацию» хайдеггеровской мысли, является двусмысленной, и не способна преодолеть большую дистанцию между неокантианским видением Хабермаса, и герменевтическими и пост-хайдеггеровскими представлениями Гадамера, ни тем более примирить разные этико-политические оценки двух философов. По этому поводу Гадамера обвиняли в нацизме, хотя самое большее, в чем можно обвинить Гадамера, это конформистское и академическое подражание духу времени, который превозносил в Германии превосходство немецкой культуры (Bildung), враждебной «разуму Просвещения» и «холодному космополитизму». Перед лицом мирового беспорядка и катастроф XX века Гадамер всегда рекомендовал реализм, который извлекает пользу скорее из равновесия политических сил, чем из космополитизма кантианского толка [53].
Описывая в одном из интервью свое отношение с Хабермасом, Гадамер сказал, что предмет их разногласий касается отношения между наукой и практическим разумом. Исходя из герменевтических предпосылок, характеризующих его философскую мысль, Гадамер утверждает, что отношение между наукой и практическим разумом касается того, как люди приходят к убеждениям, распространенным внутри общества и в межчеловеческих отношениях. В связи с этим Хабермас предполагает, что существует некий научный контроль и некая критика того, как люди формируют свои собственные убеждения. Гадамер тоже признает определенную значимость критики, понимаемой, однако, как «постоянная критика всего диалога, который люди ведут между собой». Хабермас, напротив, подразумевает критику эмансипирующего типа, ту, которую мы унаследовали от Просвещения. Из-за этого иного акцентирования рационалистической традиции Запада разгорелась между двумя философами полемика: Хабермас обвинил Гадамера в «отсутствии критического разума, предложенного Просвещением»; Гадамер ответил, что «Хабермас продолжает думать лишь в терминах Просвещения, развивает критические предпосылки Просвещения и требует заменить критический элемент наукой» [42]. По словам Гадамера, критика - это естественная предпосылка диалогического момента: если кто-то разговаривает с другим человеком и серьезно относится к словам последнего, то он уже отдает себе отчет в том, что занимается критикой. Тем не менее, некоторые критики [165] показали, что существует общая для Хабермаса и Гадамера отправная точка, и заключается она в общем понимании Просвещения, поэтому философы отличаются друг от друга просто оценкой, которую они дают ему. Действительно, они оба «исходят из рассмотрения рациональности как критической рефлексии, то есть из принципа отрицательности гегельянской диалектики. Хабермас подчеркивает, что позиция Гадамера направлена против разъедающей рефлексии критического рассудка и что, таким образом, он возвращается к попытке Гегеля указать во всякой субъективности некую субстанциальность. Гадамеровская критика рефлексии направлена против характерного для Франкфурсткой Школы духа глобального отрицания; поэтому его мишенью становится понятие «авторитета»: если Гадамер отстаивает права традиции, то Хабермас - права разрушающей ее рефлексии. Гадамер все же «в своей полемике против Просвещения и его духа революционаризма заходит слишком далеко» и «разрушает всякую субстанциальность своей эстетическо-игровой позицией» [165; 439]. Следовательно, размышления обоих «сводятся к релятивизму, проистекающему из фундаментального историзма» [165; 443], потому что они отвергают ту концепцию истины (как «ясное и четкое суждение»), которая была передана Просвещению Декартом. Несмотря на общий релятивизм, Гадамер приходит к заключению, что вся традиция достойна освоения, Хабермас, напротив, утверждает, что нужно отказаться от всего существующего, чтобы уступить место чему-то новому.
Обозначив общие культурные корни двух философов, выделим главные аспекты вспыхнувшей между ними полемики. Первый элемент касается природы и роли философии, в которую входит также представление философии и науки. Для Хабермаса философия - это некоторым образом научная эпистемология, потому что она не должна отказываться от поиска универсальных условий познания и социального действия; она призвана делать это по-новому, т.е. через лингвистический поворот, который нацелен на коммуникацию и сглаживает все различия между знаниями. Гадамер полагает, что притязание науки на то, чтобы быть единственным методом достижения уверенности и истины, это ложь современной философии, и что с этой предпосылкой необходимо бороться, чтобы вновь утверждать, что истина дается даже в искусстве и в истории.
Второе же главное направление полемики между двумя философами касается концепции отношения субъект-объект в познавательном процессе. Все рассуждения Гадамера о герменевтике проистекают из желания снова соединить эти два традиционные полюса познания, исходя из хайдеггеровской предпосылки «герменевтического круга». В итоге «я» - это некое мы, является беседой, которая имеет определенное историческое место, взаимодействует с исторической ситуацией и изменяет мир, в котором она происходит. Таким образом, не существует субъекта, вырванного из hie et nunc, равно как не существует мира без «я»; каждая личность должна быть диалектически преодолена и дополнена в интерсубъектной парадигме, которая представляет собой критическое самосознание, саморефлексия, и имеет прерогативу критиковать реальность. Из этой концепции субъекта проистекают обвинения в «объективизме» и «субстанциализации» субъекта, выдвинутые Хабермасом в адрес герменевтики Гадамера.
С этим тематическим полюсом связаны два следствия, определившие противостояние между Гадамером и Хабермасом; первое - это оценка роли традиции и отношение к предрассудкам; второе касается роли, приписываемой языку. По поводу первой темы необходимо подчеркнуть полное разногласие между ними, поскольку для Гадамера предрассудки являются неустранимыми условиями, тогда как, по мнению Хабермаса, их необходимо устранить для того, чтобы создать социальную эмансипацию. Разговор о традиции сосредотачивается на вопросе о власти, которая двумя авторами оценивается по-разному. У Гадамера власть не совпадает с авторитаризмом, как у Хабермаса, для которого «авторитет и познание не конвергируют» [165; 439], поэтому первый всегда является препятствием эмансипации.
С дебатами по власти связана также тема языка, которая является сложной и занимает у обоих авторов различное пространство. Целесообразно уточнить, что Хабермас пришел к «лингвистическому повороту» только в начале 80-ых годов; язык у него остается в положении инструмента и как таковой может быть использован либо в целях угнетения и насилия, либо наоборот, прагматически, для создания того социального единства, которое необходимо для свободного развития человечества. Для Гадамера, по стопам Хайдеггера, язык, напротив, с самого начала играет главную роль, вплоть до становления «всем тем, что мы можем знать о бытии» [46; 542], или вплоть до замены онтологического уровня уровнем лингвистическим, или точнее герменевтическим.
Общественный либерализм, социальный оптимизм, частная ирония
В Contingency, Irony and Solidariety (1988) Рорти указывает на иронию, либерализм и солидарность, как на главные характеристики философа в нынешних исторических обстоятельствах. Дискурс об этих отличительных признаках философа берет начало из констатации того, что западные демократии, или либеральные общества являются благом, поскольку они определили развитие нашей цивилизации, поэтому они могут, и должны, быть улучшены. Исследуя историческую ситуацию и общественную сферу, можно также прийти к определению сферы частной, т.е. образа жизни отдельных индивидов, поскольку ценность индивида определяется общиной, к которой он принадлежит.
Предложенный Рорти либерализм имеет две примечательных черты: с одной стороны Рорти твердо убежден, что либеральные общества, существующие в настоящее время, имеют много позитивных аспектов наряду с негативными, или, другими словами, что в актуальном либерализме существуют инструменты для его улучшения [116; 80]. Более того: некоторые государства, такие как «скандинавские социал-демократии, Голландия и некоторые другие маленькие государства, у которых нет серьезных проблем» [118; 480], очень приближаются к рортианской модели либеральной утопии. С другой стороны, у Рорти либерализм всегда утопичен, о нем можно говорить только в терминах воображения и надежды на будущее. Для практических целей важен первый аспект, совпадающий с желанием реконтекстуализации, и позволяющий нам расти интеллектуально. Подобное улучшение достигается посредством защиты и поддержки гражданских свобод, таких как улучшение качества воспитания, свобода печати, расширение возможности получать воспитание и оказывать политическое влияние. Эти конкретные, но все еще общие цели, разделяют все либералы, в какой бы стране они ни жили; отличия между либералами возникают относительно того, «как» способствовать росту гражданских свобод в определенной исторической ситуации.
Общие характеристики, которыми должен обладать рортианский либерал, определяются выражением «либеральный ироник», т.е. индивид, осознающий случайность и постоянную сменяемость собственного словаря; находясь в вечном поиске новых описаний, он стремится извлечь выгоду из книг, образов, подсказок, проистекающих из описаний альтернативных его собственным. Заметим, что у Рорти свобода, на которую наслаивается политический либерализм, сводится «к признанию случайности» [116; 59]. Во-вторых, либеральный ироник осознает случайность собственного морального словаря: единственный моральный критерий заключается в ответе на вопросы о том, «как мы стали такими, какими мы являемся сегодня», и «чем мы могли бы стать». Рорти, согласно с М. Шумпетером, не считает, что подобная концепция является превознесением этического релятивизма, которое привело бы к
освобождению от ответственности в этико-социальных вопросах, а предлагает «решительную поддержку» случайных убеждений. Релятивизм убеждений не должен быть препятствием нашему моральному обязательству, поскольку новые метафоры стимулируют наш интеллектуальный прогресс, но не объясняют, почему мы выбираем то или иное поведение [116; 64]. О «релятивизме» имеет смысл говорить, только если предполагается существование абсолютной неисторической точки зрения. Отрицание универсальной морали постулируется из невозможности «подняться над принятыми языком, культурой, установлениями, и рассматривать их на том же уровне, что и все остальные». Если нет «нейтральности», то бесполезно продолжать апеллировать к «рациональности» и основанию нравственности: лучше говорить об «осмотрительности или благоразумии».
Прилагательное «ироничный» существенно довершает и характеризует идеальную, фигуру философа. Согласно определениям Contingency, Irony and Solidariety, «ироничен тот, кто постоянно сомневается в своем собственном словаре», и «сознает, что собственные сомнения не рассеиваются и не подтверждаются доводами» [116; 90]. Заметим, что подчеркивание сменяемости собственного лексикона устанавливает связь между иронией, номинализмом и историзмом. Вкратце, ироничен тот, кто никогда не может относиться к себе слишком серьезно; в то же самое время он очень уверен в себе и приписывает себе незаурядные критические, творческие способности, а также дар воображения. Слова старого словаря, предоставленного ему историческими обстоятельствами, также должны привести к изобретению новых слов, которые придут им на смену, в бесконечном процессе, называемом «диалектика». Выбор гегелевского термина связан со своеобразным истолкованием Гегеля, как тот, кто «вместо того, чтобы строить философские теории и потом доказывать их, постоянно менял словарь и, следовательно, тему» [116; 96]. В итоге, рортианская диалектика отождествляется с «литературоведением» и с постфилософией: ироник читает эссе других критиков, сравнивает их, восхищается резко контрастирующими книгами, располагает книги в своей библиотеке не по теме, но согласно традиции, которой писатель принадлежит, и пытается добиться как можно более широкого спектра классических произведений.
Таким образом, фигура ироника обретает «эстетический» характер, который делает его в глазах большинства других людей эксцентричным, подчас даже «безответственным». Либеральный ироник - это не типичный персонаж; противоположностью ироника является как раз «здравый смысл», характеризуемый «метафизическим типом», не желающим отказываться от своей «непреодолимой потребности в непоколебимых истинах». Несмотря на странность персонажа, Рорти уверяет нас, что «то первостепенное положение, которое заняла литературная критика в демократиях, говорит об увеличении числа ироничных интеллектуалов по сравнению с интеллектуалами метафизическими» [116; 100]; но это также спровоцировало «увеличение разрыва между интеллектуалами и народом», поскольку в современных либеральных обществах еще заложена метафизическая риторика.
Последнее соображение, которое противоречит сказанному ранее о роли философии, заставляет Рорти проводить различие между общественным и частным, из-за которого у него возникло больше проблем, чем преимуществ. Он понимает, что фигура ироника элитарна и принадлежит своего рода интеллектуальной аристократии, которая подчас может оказывать «дестабилизирующее» влияние в либеральном обществе, где большая часть людей думает еще «метафизически». Вопрос о том, чем кончится, если ирония станет характеристикой большей части граждан либерального общества, изрядно пугает многих его коллег, все же разделяющих либеральную утопию.
Недавние достижения натурализма в Италии
Сосредоточим внимание на некоторых представителях того, что сегодня, не только в Италии, но и в Соединенных Штатах, является мажоритарным эпистемологическим течением, т.е. «натурализма». Целесообразно уточнить, что «натурализмом» в ходе истории философии назывались очень непохожие друг на друга явления: от поиска «естественного первопринципа» досократиков до пантеизма Спинозы, до позитивизма. Сегодня использование этого термина отсылает к начавшимся примерно в 50-иые годы дебатам в сфере аналитической философии, благодаря предложению Куайна «натурализовать эпистемологию». Должно пройти еще десятилетие, чтобы У. Селларс {Naturalism and Ontology, 1979) использовал термин «натурализация» для определения своей философии, признавая при этом двусмысленность, которую он за собой влечет. После четверти века двусмысленность в использовании термина не прояснилась, и некоторые до сих пор используют его, говоря о совершенно разных философиях. Как заметил А. Паньини [87; 169], есть даже те, кто объявляет себя «антинатуралистом» (М. Хессе), противопоставляя натурализм «конструктивизму», т.е. ссылаясь на значение, которое натурализм имел в философской традиции. Стоит подтвердить, что в контексте нашей работы этот термин мы используем в его куайновской формулировке.
Предложение натурализовать эпистемологию было одобрено и в Италии, где традиция логического неопозитивизма не привилась, и размышление об отношении между естественными науками и философией никогда не прекращалось. Важным проявлением этого одобрения стала публикация в 1998 г. Введения в современный философский натурализм под редакцией Э. Агацци и Н. Вассалло, где излагаются итальянскими и зарубежными авторами основные тематики натурализма. Исходной мотивацией редакторов было то, что «натурализм недавно распространился как масляное пятно в большей части аналитической философии, и даже начал в ней превалировать» [5; 12]. Квантификация явления сложна, но можно утверждать, что и в Италии многие откликнулись на призыв Куайна и начали размышлять о возможных и желательных попытках «натурализации».
Показывается, что сегодня в Италии в натурализме имеют место две тенденции: мажоритарная тенденция (Э. Агацци, Н. Вассалло, П. Баротта) допускает в философских размышлениях результаты естественных наук, но оставляет за эпистемологией анализ нормативных аспектов научных знаний, таких как «оправдание», «значение» и научную методологию. По существу эта группа умеренных «натуралистов» ссылается на позицию «теории достоверности» (reliabilism), выраженную А. Голдмэном, и на размышления о научном методе, предложенные Л. Лауданом и другими. Что касается второй тенденции, нужно отметить, что и в Италии есть аналитические философы (самый видный из них, Д. Маркони), которые так сказать «радикально» истолковывают предложение натурализации эпистемологии. Представители этой группы понимают натурализацию как замену эпистемологии естественными науками, нейронауками и компьютерным моделированием познавательных процессов (искусственным разумом). По мнению представителей второй тенденции, нормативными аспектами познания можно пренебречь, в надежде на то, что вышеназванные науки обеспечат нас адекватными инструментами для натурализации нормативных понятий. Промежуточную позицию занимают те, кто подобно К. Пенко и А. Паньини отчасти соглашаются с первой группой «натуралистов», поскольку они считают неустранимым концептуальный и нормативный аспект процесса понимания, но также придают большое значение результатам поиска в сфере искусственного разума.
Рассматривая суть размышлений натуралистов первой группы, стоит упомянуть вклад ее самого влиятельного представителя, Э. Агацци, решающей фигуры в истории итальянской философии науки. Получив в Милане сначала диплом философа, а затем физика, он специализировался в престижных европейских вузах (Оксфорда, Марбурга, Мюнстера).
Вернувшийся в Италию, он продолжил свои исследования под руководством Л. Джеймоната, внес решающий вклад в его новаторскую программу и опубликовал в течение десятилетия основополагающие тексты по математической логике и аксиоматике. Характерной чертой первых произведений Агацци была его «способность привести самые специфические тематики к общефилософским проблемам» [94; 153]; его подход к разнородным вопросам основывается на убеждении постоянного взаимодействия философии и науки: философия отвечает на вопросы о «смысле» поиска и определяет общий «фон», на котором исследование происходит, поэтому ответ на общие вопросы интересует не только философа, но и непосредственно влияет на исследования любого ученого. Во вторых, у философского и у научного исследования один и тот же объект, то есть природа, поэтому наука предлагает философии интересующие ее результаты, над которыми философия призвана размышлять. По мнению Агацци, размышлять о нормативных аспектах научного поиска следует самим ученым, а не философам, так как методология является осознанием собственного концептуального инструментария. В его философии имеет место сильная кантианская составляющая, которая обнаруживается в поиске «основания» научных знаний. Она сочетается с его научной компетентностью, приводя его к «операционизму» или к «конструктивизму: объектом научного исследования является «сумма определений», и каждое определение - это «операция или сумма операций, являющихся в свою очередь отношениями» [3; 349]. Физический объект - это масса отношений, произведенных физическими операциями, поэтому объект всегда публичен, повторяемый, верифицируемый, он никогда не находится «по ту сторону» операций, совершенных для того, чтобы его определить. В последние годы Агацци сосредоточился на описании научной «объективности» и на защите формы «научного реализма», основанного на понятиях «ссылки» и «истины». Выступая против всякой попытки «умалить науку до совокупности лингвистических конструкций» [4], он считает неустранимым компонент референтности, имеющий место в теоретических высказываниях, особенно когда они предполагают лабораторные эксперименты. Заметим, что допущение Агацци о том, что реальностей существует столько же, сколько научных теорий, и о том, что научные положения всегда могут быть пересмотрены, не приводит его к скептическим заключениям.
Один из его учеников, К. Пенко, продолжил реализацию новаторской программы Джеймоната с тем, чтобы гарантировать итальянской эпистемологии наибольшую автономию от философии для проведения все более квалифицированных исследований. Завершив свое образование за границей (в Кембридже и Оксфорде), Пенко начал заниматься философией языка, познавательным процессом и искусственным разумом, ведя диалог по этим темам с иностранными коллегами. В исследовании по аналитической философии, он воспользовался аргументами «контекстуализма», выраженного Д. Капланом [65], чьи произведения сам Пенко перевел на итальянский язык. Основное допущение заключается в том, что «семантический анализ должен включать контекст в качестве концептуального и формального инструментария, поскольку существуют высказывания, которые являются истинными во всех контекстах, не будучи обязательно истинными [92; 21], такие выражения как «я», «здесь», «сейчас», «это», «то», и т.д. В соответствии с результатами исследований Дж. Перри, Пенко включает понятие «контекста» в логические формализмы, и применяет его к исследованиям по искусственному разуму. По его мнению, это приводит к расширению сферы логики, потому что в «контекст» включены верования и познания, пригодные для определения значения любого высказывания. Таким образом, признает Пенко, выделяется пограничная зона между философией, логикой и искусственным разумом, где применение информатики пересекается с рядом философских достижений.