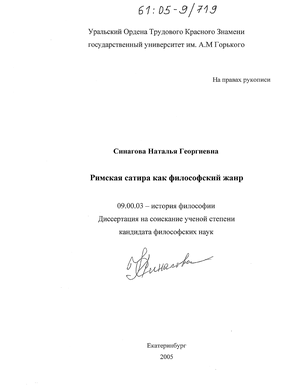Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Римская сатира как тема для историко-философского сследования с. 7
Глава 2. Основные философские темы сатир Луцилия и Горация 1. Философские биографии Луцилия и Горация: реемственность мировоззренческих установок с. 36
2. Actus hominis et actus humanus: мера человека его действия с. 60
3. Мера «инстинкта свободы» как ключ к модели личности и «социо-культурной антропологии» стоиков с. 75
Глава 3. Очерк антропологии Персия: «Stoicus» и «Ex adverso»... с. 91
Глава 4. Ювенал: масштаб моральной пропасти между должным и ущим
1. Особенности выражения стоической этики в сатире венала с. 116
2. У истоков исследования проблемы толерантности пола и арактера с. 132
Заключение с. 144
Библиография
- Римская сатира как тема для историко-философского сследования
- Actus hominis et actus humanus: мера человека его действия
- Очерк антропологии Персия: «Stoicus» и «Ex adverso»...
- Особенности выражения стоической этики в сатире венала
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что разработка проблематики истории римской философии весьма бедно представлена в российской историко-философской литературе особенно на фоне внимания к греческой философии. Еще меньше внимания уделяется той части римской философии, которая существует не в философских трактатах, а в литературных произведениях, в творчестве философствующих поэтов и писателей. Таким образом, диссертация способствует разработке определенного и весьма значительного аспекта истории римской философии, показывает ее особенность, которая имеет место и в других философских культурах, например, в древнекитайской и русской.
В немалой степени актуальность диссертационного исследования связана и с тем особенным обстоятельством, что римская сатира - это весьма своеобразное явление в истории античной философии. Имея организующим началом автобиографический характер, по своему индивидуальному замыслу сатира была зеркалом образа жизни автора и стояла у истоков римской литературы личностного самовыражения. Проблема морали и человека в его соотнесенности с миром, самим собой, другими людьми и творящим началом всегда была господствующим ее предметом.
В силу такой специфики, исследование текстов римских сатириков (таких, как Луцилий, Гораций, Персии и Ювенал), подход к ним как к объекту философского осмысления с целью выявления философской доктрины человека, представленной в их творчестве и раскрытие ее проблемного поля, является вполне актуальным в историко-философском плане.
Степень разработанности проблемы. Специальных историко-философских работ на данную тему в зарубежной и в нашей литературе нам удалось обнаружить всего две: Констан М. Философы и поэты-моралисты во времена Римской империи, 1879 год; Mendell C.W. Die Satire als Popularphilosophie, Darmstadt 1970. В первой из них освещены в основном проблемы морали и нравственности, но мало внимания уделяется доктрине человека у римских стоиков. Во второй работе раскрываются только общие вопросы соприкосновения философской мысли и литературы.
Мы объясняем это обстоятельство тем, что у нас, во-первых, еще недостаточно изучается античная антропология вообще. Если в нашей литературе еще в какой-то мере представлена историография древнегреческих воззрений на человека (в этом отошении можно назвать работы Б.Г. Григорьяна, Г.В. Драча, В.П. Горана, И.Д. Рожанского и других), то работ по антропологическим воззрениям римских мыслителей практически почти нет, хотя общеизвестно, что римская философия была ориентирована именно на антропологическую проблематику.
Во-вторых, характернейшей чертой римской философской культуры является философствование в формах художественной литературы: эпической поэзии, комедии, сатиры. Признанием этого факта является, в частности, то, что в 1985 году в университете г. Турку (Финляндия) состоялся международный симпозиум на тему «Философская мысль в античности и ее отражение в литературе Древней Греции и Древнего Рима».
Но эта область римской антропологии еще меньше охвачена историко-философскими исследованиями. Нет исследований по философской антропологии Вергилия и Овидия, Плавта и Теренция и т.д. Лишь некоторым образом подобного рода вопросы затрагиваются в литературоведческих трудах по истории римской литературы. Таким образом, и в отношении римской сатиры мы можем отметить только работы, касающиеся сатиры как литературного жанра (см. работы Д. Нагуевского, B.C. Дурова, В. Г. Боруховича, И.М. Тройского, Михаэля фон Альбрехта, U. Knoche, V. Poschl, Н. Erdle, A. Wojcik и других). В названных работах в основном рассматриваются вопросы текстологии, связь творчества одного сатирика с творчеством другого, их литературные воззрения и тому подобные вопросы.
Но, на наш взгляд, тексты римских сатириков в плане изучения философской антропологии своего времени, а также типологии античных концепций человека, могут дать значительно больше, чем это представлено в трудах литературоведов.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является подход к человеку не как персонажу литературного произведения -это задача литературоведа, историка литературы, - но как объекту философского осмысления, то есть выявление философской доктрины человека, представленной в творчестве римских сатириков, и раскрытие ее проблемного поля.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. Во-первых, был собран и систематизирован антропологический материал, содержащийся в текстах римских сатириков. Во-вторых, дана квалификация философских предпочтений сатириков, выраженных в их представлениях о человеке. В-третьих, исследованы и показаны историко-культурные и историко-философские основания антропологии сатириков, а также учтены лично-биографические моменты, повлиявшие на их философско-антропологические ориентации.
Методологической и теоретической основой диссертации послужили работы отечественных и зарубежных философов, историков философии, филологов, изучающих римскую философию. В частности, модель личностного подхода использовалась исходя из положений, разработанных у Г. В. Ф. Гегеля, А. Ф. Лосева, М. Фуко, П. Адо и в современной глубинной психологии (партиципативная концепция "Я" Л. Зонди). Осуществлена попытка некоего синтеза современного личностного подхода в философии и психологии с таковым же в доктрине человека Второй Стой. Впервые к исследованию феномена римской сатиры была применена личностная модель оценочно-семантического подхода, разработанная в современной философии и психологии с использованием онтологических, универсальных ее возможностей, выражающих общеаксиологическую установку на доминирование «человека» над «человечеством» и «родовой сущностью человека» как абстракциями. Выявление автором проблемного поля такого исследования действительно расширяет и углубляет возможности историко-философского взгляда на римскую сатиру, как предшественницу современной философской публицистики. Источниковедческой базой исследования явились тексты римских сатириков Луцилия, Горация, Персия и Ювенала.
Римская сатира как тема для историко-философского сследования
Ставя вопрос о том, обнаруживает ли содержание римской гекзаметрической сатиры сколько-нибудь правомочное притязание на место в истории философии, мы находим в литературе два взаимодополняющих способа или направления ответа на него.
Прежде всего, феномен римской сатиры изучается мировым литературоведением. Традиция такого изучения весьма давняя и берет свое начало еще в I веке н.э. от высказывания знатока греческой и римской литературы Квинтилиана в трактате «Образование оратора» о том, что Satura quidem tota nostra est («Сатира же - наша безраздельно»; Quint, inst. 10, 1, 93).
Вслед за ним Диомед (IV век по Р.Х.) дает следующее определение жанра: Satura dicitur carmen apud Romanos nunc quidem maledicum et ad carpenda hominum vitia archaeae comoediae charactere compositum, quale scripserunt Lucilius et Horatius et Persius («сатирой и сейчас называется у римлян порицающее стихотворное произведение, сочиненное в духе Древней комедии для того, чтобы нападать на пороки; такие писал Луцилий, Гораций и Персии; gramm. 1, 485, 30 - 32 Keil).
В современном литературоведении исследованием римской сатиры занимались такие авторы, как Д.И. Нагуевский, И.М. Тройский, В.Г. Борухович, М.Л. Гаспаров, B.C. Дуров, Михаэль фон Альбрехт, C.W. Mendell, Ulrich Knoche, V. Poschl, W. Krenkel и другие.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные авторы, погружаясь, прежде всего, в рассмотрение литературных особенностей жанра и исторических его корней, с неизбежностью вынуждены обращаться к философской и антропологически-философской тематике в силу именно жанровой специфики исследуемого предмета. Изначально возникнув, как типично римский жанр литературы, сатира «крестной матерью имела философскую проповедь, диатрибу» . Делом сатиры было рассматривать, как живут люди, каковы их нравы. «Заимствуя материал из жизни и имея целью общественную пользу и нравы людей, сатира усвоила себе дидактический характер»2. Но имея господствующим предметом морально-философскую дидактику, по своему индивидуальному замыслу она явилась зеркалом жизни, точнее «образа жизни автора и стояла у истоков римской поэзии индивидуального самовыражения»3. В силу этого сатира предельно насыщена проблемой человека.
По мнению Горация, боги рождают десятую, самую младшую музу — Musa pedestris («пешая Муза», Sat, 2, 6, 17), которая вдохновляет сочинять Sermones repentes per humum («беседы - ползущие по земле», Epist, 2,11). Подобное времяпрепровождение осознается как призвание, как «образ собственной жизни» (speciem vitae - Luc. фр. 1106). И как пишет Гораций:
Вот почему и стихи и другие забавы я бросил; Истина в чем и добро, я ищу, и тому весь отдался. Мысли, сбирая, кладу я так, чтоб достать было близко. (Epist. 1, 1, 10.) Представлению своей позиции как популярной практической философии посвящена у Горация вся четвертая сатира первой книги. Также и Персии заявляет как о своем кредо, что он, будучи учеником Корнута, последователя Клеанфа, лишь в новых выражениях представляет известные постулаты, т.е. «чему следовать нам, чего избегать тебе должно»(Сат., 5,107). В «Прологе» к своим сатирам он заявляет: Ни губ не полоскал я в роднике конском, Ни на Парнасе двухвершинном мне грезить Не приходилось, чтоб поэтом вдруг стал я.
Гораций объясняет свой выбор писать сатиры, в частности, тем, что считает себя неспособным писать комедии, как его современник Фунданий (Сат. 1, 10,40). Сатира, говорит Гораций, как и комедия, не заслуживает названия поэмы. Он приводит в пример отца, который в комедии бранит сына за его связь с распутницей и отказ от невесты с большим приданым. Если бы не стихотворный размер, поясняет сатирик, то так мог бы браниться в жизни любой разгневанный отец. Гораций сближает здесь сатиру с комедией по внешним и формальным признакам, среди которых -прозаичность содержания, разговорный характер, диалогическая форма.
Известный исследователь и издатель римских поэтов Л. Мюллер, в частности, пишет: «Сатиры Луцилия напоминают нам комедии и потому, что имели форму разговора. Этим именно объясняется, что поздние грамматики причисляют иногда Луцилия прямо к комикам».
Воспитанный на изысканности неотеризма, горячий поклонник греческой культуры, осуждающий архаическую поэзию римлян за несовершенство и грубость языка, Гораций стремится придать вес и значительность жанру, как бы облагородить его, выводя сатиру из аттической комедии. Как ближайших предшественников Луцилия он называет представителей «древней» аттической комедии Евполида, Кратина и Аристофана. Комедия, сложившаяся в творчестве перечисленных авторов, противопоставляется позднейшим комедиям - «средней» и «новой». «Древняя» аттическая комедия характеризуется как комедия политическая, но не в узком, а в широком смысле, поскольку она занимается не только политикой, но и вообще всеми вопросами общественной жизни -литературой, воспитанием, наукой, социальными отношениями, религией, судом, положением женщин и т.д.»
Actus hominis et actus humanus: мера человека его действия
При попытке написать очерк философских проблем, как они выражаются в сатирах Луцилия и Горация, на наш взгляд, есть резон объединить этих авторов, что значительно усиливает теоретический эффект изложения. И вот почему.
От гекзаметрических сатир Луцилия, собранных в тридцати книгах и им самим названных «импровизациями, экспромтами» (schedia) или «легкими беседами» (ludus ас sermones), до нас дошло всего около 1300 строк. Двадцатая часть! Да и эта часть безнадежно разрозненна, и все попытки соединения их в какое-нибудь связное целое остаются тщетными. Но Гораций, читавший их все, и глубоко восхищавшийся ими, задумал возродить этот жанр, причем, именно на основании единства мировоззрения. Он сознательно выступил продолжателем Луцилия, создавая традицию, прежде всего, в философском понимании человека и присущем такому пониманию образе жизни.
Общими в этом историческом преемстве были следующие идеи. Во-первых, представленное уже нами в самых общих чертах, учение о человеке Новой Стой (humanitas) и далее два основных, по нашему мнению, столпа на которых оно держалось.
Первый из них - это настоящая духовная практика дружеской любви, воплощенная в двух поколениях сципионовских дружеских союзов и в союзе, который попытался воссоздать Меценат, несомненно, в подражание Сципиону Младшему.
Второй - пафос понимания высшей человеческой добродетели — virtus («доблести» греческой арєтаі), как концепции «золотой середины», «пределов и меры», приближающейся, несмотря на всю свою эллинистическую «абстрактность», к утверждению человеческой личности, человеческого «Я» на воображаемом срединном месте во всем существе человека и ее (личности) врожденной, природной само-господствующей автономии.
Концепция эта, формируясь и восходя своими началами еще к семи мудрецам и Аристотелю, к Сократу, аристофановской комедии, этическим характерам Феофраста и стоико-кинической диатрибе, установила и исследовала множество противоречий в человеческом «Я». Вспомним хотя бы одно, важное для наших рассуждений: «Я», так сказать, от своего задуманного, воображаемого начала имеет стремление противостоять инстинктам, и в то же время его главной задачей является роль проводника инстинктивных желаний. Перед «Я» постоянно ставится следующая задача: как одновременно защитить себя, как организовать удовлетворение желаний и при этом сохранить свою автономию? Таким образом, человеческие слабости и неправильное поведение могут быть поняты с философской точки зрения как отклонения от золотой середины. Человеческое «Я» истолковано не как запертая в клетку птица, которая немощно ударяет крыльями по инстинктам, возжаждав реальности и устремившись к ней, как стремятся к строгому superego,1 но и самостоятельная, автохтонная ценность, которая, меняя старое, создает новое,2 регулирует и синтезирует, подготавливая таким образом условия для человеческой свободы и ответственности и возможности жить по-настоящему качественно. И здесь концепция «золотой середины» полностью смыкается с духовной практикой дружеской любви, потому что любовь всегда открывает себя только в глубине человеческой свободы. Доблесть - это путь достижения высшего блага.
То, что дошло до нас от сатир Луцилия не позволяет создать целостное представление о его взгляде на человека. Размер фрагментов, как правило, невелик и отрывки, по большей части лишенные контекста, затрудняют для нас его понимание. «Гибель этого оригинального и «самого римского» из римских поэтов - особо горестная утрата. Ведь не принижая заслуг Энния, в Луцилии должно видеть подлинного основателя римской сатиры, и таким образом, вообще европейской сатиры. Он первый придает ей «сатиричность». Равным образом он начинатель римской поэзии индивидуального самовыражения».3
В своей рудиментарной форме, как это уже и было нами описано, сатира возникла еще у Квинта Энния (239 - 169), который входил в первый в Риме дружеский кружок вокруг Сципиона Африканского Старшего (235 - 183), победителя Ганнибала в сражении при Заме (202 год). Участники содружества, широко используя духовное наследие Греции, занимались просветительской и литературной деятельностью. Как писал Д. Нагуевский: «Первые проблески римского меценатства благоприятно отразились на отношении римской знати к патриарху римских поэтов Эннию. Дальнейший расцвет этой римской доблести проявляется в литературном кружке Публия Сципиона Африканского Младшего». 4
В атмосфере двух сципионовских кружков впервые, а кружка Мецената в классическом уже варианте, «воспитывался тот новый для римской «серьезности» тип ученого и в то же время непринужденного, остроумного разговора и поведения, то «вежество (urbanitas), которое было неотъемлемой чертой римского идеала».5 Только сатира собственно и воссоздает перед нами живую атмосферу «бесед, ползущих по земле (sermons repentis per humun - Ног. Ер. 2, 1, 250 - 251), атмосферу дружеской встречи, где звучали впервые стихи Луцилия и Горация.
Гай Луцилий (167/180 - 102 гг. до н.э.) родился в маленьком провинциальном городке Суэссе Кампанской (Ювенал, I, 19) в богатой семье римских всадников. Его брат, приходившийся дедом Гнею Помпею Великому, был даже сенатором. В зрелом возрасте Луцилий участвовал в Нумантийской войне (в Испании) под начальством Публия Корнелия Сципиона Африканского Младшего. Он вел независимую жизнь состоятельного человека. У него были земельные владения в Аврунке, Сицилии. Кроме этого он имел дом в Риме и поместье в Неаполе. На независимое положение поэта указывает и то, что он никогда не занимал государственные должности. Творчество Луцилия знаменует собой новую эру в римской литературе: «Луцилий первый из людей знатных, - писал академик М.М. Покровский, признал поэзию могучей общественной силой; он не отдался ей как богатый дилетант, для личного времяпрепровождения или для увеселения своих друзей и политических единомышленников, но, по его собственному заявлению, решил писать «для общественного блага». Гай Луцилий жил в эпоху наиболее сложную и противоречивую во всей истории Рима, которую сами римляне воспринимали как кризис. Господство над Западным Средиземноморьем обогащает лишь немногих. В результате победоносных войн с Карфагеном Рим превратился в крупнейшую державу, в которую из завоеванных областей неудержимым потоком хлынули богатства, неся одним неслыханное обогащение, разорение и обнищание другим. Следствием многочисленных войн и борьбы за расширение внешнего господства явилось неустойчивое экономическое положение в Риме. Мелкие собственники, разоряемые изнурительными войнами, постепенно исчезали, поглощаемые латифундиями, на которых использовался труд огромной массы рабов. Попытки решить проблему голодающего плебса путем распределения земель встречали решительные противодействия со стороны консервативных классов, ревностно охранявших свое богатство и свои привилегии.
Очерк антропологии Персия: «Stoicus» и «Ex adverso»...
В I веке н.э. традицию представления в сатире человека продолжает Авл Персии Флакк (4 декабря 34 г. - 24 ноября 62 г.). По своему воспитанию и образованию он был философ-стоик. Сатиры являлись, собственно, дебютом его на профессиональной стезе. Под влиянием времени и личных склонностей Персии выбрал именно такую форму для своей стоической нравоучительной моральной проповеди. Поэтому он предпосылает своим сатирам пролог, в котором декларирует приверженность именно «пешей Музе», иронически отмежевываясь от поэтов, черпающих вдохновение на Парнасе и в «конском источнике» (т.е. посвященной музам Гиппокрене) и не считая себя одаренным свыше, а «полунеучем» (semipaganus)1 пишет: Ни губ не полоскал я в роднике конском, Ни на Парнасе двухвершинном мне грезить Не приходилось, чтоб поэтом вдруг стал я. Я Геликонских дев с Пиреною бледной Представляю тем, чьи лики плющ цепкий Обычно лижет; сам же, как полунеуч, Во храм певцов я приношу стихи эти.
Французский ученый XIX века Констан Март, исследовавший морально-философские идеи Персия, писал: « Он был страстным последователем великой стоической философии, меланхолическим порицателем всеобщей испорченности в царствование Нерона, ревностным и скромным представителем самого благородного римского общества, той героической избранной толпы философов и политиков, куда укрылась, как в последнее убежище, совесть человеческого рода».2
«Составить себе понятие об этом стоическом Солоне»3 и значит понять человека его времени и его круга в соответствии с теми представлениями и системой воплощения их в конкретной личности, которые исповедовала Новая Стоя.
Древнее «Жизнеописание Персия» принадлежит грамматику Валерию Пробу, современнику сатирика.4 Жизнь Персия укладывается в три последних года Тиберия, царствование Калигулы, Клавдия и восемь первых лет царствования Нерона, следовательно, в одну из самых тяжелых эпох империи, когда жестокая тирания и ужасная разнузданность нравов всего сильнее вызывали республиканские воспоминания в знатных семействах и безмолвные или смелые протесты со стороны философов.
Из древней биографии Персия известно, что он родился в этрусском городе Волатеррах и принадлежал к богатому всадническому роду. Отца своего Персии потерял в шестилетнем возрасте и до двенадцати лет его воспитывала мать, знатная матрона - Фульвия Сисенния. Затем Персии был перевезен матерью в Рим, где начал обучаться у известных в его время наставников - ритора Вергиния Флава и грамматика Реммия Палемона.
О Вергинии Флаве упоминает Тацит («Летопись», XV, 71), говоря, что после раскрытия заговора Пизона Нерон изгнал из Рима, в числе других лиц, и этого ритора за то, что он своим красноречием слишком возбуждал восторг в юношах. Почти все учителя, друзья и родные Персия будут рано или поздно приговорены к изгнанию или смерти за свои гордые чувства и речи. Все окружающие его - будущие изгнанники.
В шестнадцать лет, в тот возраст, когда молодые римляне обыкновенно эмансипировались и зависели уже только от самих себя, Персии поступил под влияние и руководство знаменитого философа и «сочинителя философских книг» Аннея Корнута. Благоразумный и робкий юноша, согласно «Жизнеописанию», сделался его учеником и другом и никогда не покидал его с тех пор. Таков был древний обычай - молодые патриции, преданные благородным научным занятиям, примыкали обыкновенно к какому-нибудь избранному человеку, речь и поступки которого могли служить для них примером. Во времена империи самые серьезные умы обратились в сторону философов, прося у них высокого нравственного образования и правил добросовестности в частной жизнии. Итак, Персии вполне предался Корнуту как своему нравственному руководителю. Он жил вместе с ним, постоянно запоминая его слова и примеры и стараясь перевоспитать себя по образцу своего нежно чтимого учителя. Это было предписание практической морали тех времен - выбрать себе в товарищи и свидетели своей жизни безупречного человека, который был бы руководителем и врачом души. Сенека выдвинул ясную теорию этого морального руководства: «Пример более укорачивает путь мудрости, нежели правила. - Изустная речь полезнее чтения. - Никто не может собственными силами освободиться от порока; надо, чтобы кто-нибудь протянул ему руку и извлек его. — Выберем себе провожатого, который указывал бы нам, что нужно делать, Даля это сам, и которым можно было бы больше восхищаться видя его, нежели слыша. - Философ подобен медику, не могущему прописывать за глаза то, что нужно больному; надо, чтобы он ощупал ему пульс».5
Анней Корнут был одним из тех мудрецов, каких требовал Сенека в качестве учителей. Свою пятую сатиру Персии посвящает Корнуту: нечасто можно найти такие высокие чувства по отношению к наставнику, притом выраженные с такой сердечной откровенностью:
«Цель моя, при обращении к тебе этих стихов, состоит не в том, чтобы наполнить страницу напыщенным вздором, не из желания, как говорится, сделать тяжеловесным дым. Мы говорим здесь с глазу на глаз, и я не сопротивляюсь своей музе, побуждающей меня открыть тебе всю мою душу. Считаю счастьем для себя высказать, мой милый Корнут, мой нежный друг, насколько ты составляешь часть меня самого»6 (Сат. V, 19 - 24). ... Quantaque nostrae Pars tua sit, Cornute, animae, tibi, dulcis amice, Ostendisse juvat (p. 279). И далее он продолжает: «Постучи-ка по моему сердцу, ты, так хорошо умеющий распознавать пустой звон и угадывать, когда громкие слова украшают собой пустоту; да, я не побоялся бы попросить помощи ста голосов, по примеру поэтов, чтобы сказать с чистейшей искренностью, до какой степени я допустил тебя проникнуть в глубину своей души, и чтобы высказать словами все невыразимые чувства, заключающиеся в моем сердце» (Сат.У,24-29). Ut quantum mihi te sinuoso in pectore flxi, Voce traham pura, totumque hoc verba resignent, Quod latet arcana non enarrabile fibra (p. 279).
Особенности выражения стоической этики в сатире венала
Сатира римлян является настоящим учебником популярной философской антропологии. Ювенал ее заключительная и самая большая глава. Он завершает ряд латинских классиков сатиры. Имеется чрезвычайно мало документальных данных для составления хотя бы краткой, но достоверной философской биографии Ювенала. Из разрозненных и противоречащих друг другу сведений о его жизни известно, что Децим Юний Ювенал родился между 50 и 60 годами, а умер между 127 и 140 годами. Он был сыном или воспитанником состоятельного вольноотпущенника из Аквина близ Рима, получил тщательное грамматическое и риторическое образование. Среди его учителей, возможно, был крупный ритор того времени Марк Фабий Квинтилиан. Крупнейший римский поэт-эпиграмматист Марк Валерий Марциал был его другом. Если верить древнему биографу, Ювенал почти до середины своей жизни был ритором и некоторое время занимался адвокатскими делами. Сатиры он начал писать только после смерти императора Домициана (96 год), когда в Риме установилась свобода слова. Все шестнадцать сатир в пяти книгах он сочинил во времена императоров Траяна и Адриана из династии Антонинов, сменивших на римском престоле Флавиев. Одушевленный ненавистью к свергнутому тирану, он в трех первых книгах своих сатир в резкой, инвективной форме бичует именно это время «подлинной оргии подозрительности и жестокости», как назвал его в своей книге Ф.Ф. Зелинский.1 Время, когда, по его собственному выражению, «... стала давно уж
Три первые его книги заметно отличаются от остальных его сатир, созданных стареющим поэтом в правление Адриана и называемых поздними сатирами. B.C. Андерсон говорит о «негодующем сатирике» ранних сатир и «сатирике в духе Демокрита» поздних , который «осмеял и заботы у черни и радости тоже, а иногда и слезу» (Сат. 10, 51).
Традиционно, подобно всем римским сатирикам, Ювенал описывает мировоззренческую установку, приведшую его к необходимости писать сатиры и сделавшую их образом его жизни. Такую установку можно вычленить в виде целой программы. Музе эпической поэзии Каллиопе он приказывает не вмешиваться, «сесть (considere)» (Сат. 4, 34), так как «говорится о правде (res vera agitur)» (Сат. 4, 35). А затем пишет, характеризуя свое время: «Наполовину задушенный мир терзался последним Флавием. Рим пресмыкался пред лысоголовым Нероном [Домициан -С.Н.] ... (Quum jam semianimum laceraret Flanius orbem Ultimus, et calvo serviret Roma Neroni)» (Сат. 4, 37 - 38). Теперь «к небу несет наилучшим путем современным высших успехов (... in coelum... evenit optima summi Nunc via processus)» (Сат. 1 38-39) - «Criminibus (преступленьем)» (Сат. 1,75). «Разве когда-либо были запасы пороков обильней, Пазуха жадности шире открыта была и имела наглость такую игра?» (Сат. 1, 87 - 89), «... кто перенес бы Роскоши скупость такую (Luxuriae sordes - низость)» (Сат. 1, 140). «Нечего будет прибавить потомству к этаким нравам Нашим...
Всякий порок стоит на стремнине (Onine in praecipiti vitium stetit...)» (Сат. 1, 147 - 149). И далее следует его инвектива: «Негодованьем (indignatio)» (Сат. 1, 80), «гневом пылает иссохшая печень (... siccum jccur ardeat ira)» (Сат. 1, 45); «Трудно сатир не писать (Difficile est Satiram поп scribere)» (Сат. 1, 30); «Кто настолько терпим (Tarn patiens) к извращеньям Рима, настолько стальной (tam ferreus)?» (Сат. 1,31).
«Низость» нравов изображаемого им времени была такова, что как скажет Констан Март, «он ужаснул стыдливость, проповедуя добродетель... его чудовищные картины останутся единственными и не рискуют быть превзойденными... В галерее, которую нам предстоит пройти, есть много картин, которым следует быть занавешенными».4 И это сущая правда! Ювенал разворачивает перед нами такой «ужасающий» по размаху панорамы сценарий блокбастера в шестнадцать серий, такой патологоанатомический театр крайних пределов человеческого развращения, порока, безумия, преступного беспутства, что для подробного исследования с точки зрения философской антропологии понадобилось бы, наверное, несколько томов. Мы ограничимся лишь попыткой общей топографической разметки его философской антропологии и анализом самой большой сатиры, посвященной женщине, браку и семье.
Приступая к этому, еще раз вернемся к изначальной установке Ювенала и к описанию им трудности дела, к которому он оказался призванным во «Время ненастья, когда, знаменитые поэты Брали на откуп то в Габиях баню, то в Риме пекарню И не считали позором и срамом глашатая дело» (Сат. 7, 3 - 5). И далее: «Все же мы дело ведем и по тощему пыльному слою Тащим плуг бороздой на пашне бесплодного поля; Мы как в петле привычки к тщеславному делу; свободы Нам не дано, а зараза писать не у всех излечима (tenet insanabile multis / Scribendi cacoethes...). олью души она держит людей и в них матереет (et aegro in corde senescit)» (сат. 7, 48 - 52).
He относя себя к приверженцам какой-либо одной философской доктрины, сатирик стремился к универсальному подходу в понимании человека и человечности, но все же склонялся к традиционно преобладающей среди римских философов и общественных деятелей концепции стоической humanitas.
Мотив, заставивший его писать сатиры, «сделавший трудным их не написать» (I, 22, 30), и ставший одновременно их главной темой, вполне философский: ужаснувшая его моральная пропасть между должным и сущим (I, 1 - 171). В соответствии с этим Ювенал и строит свою «этическую» антропологию, основанную на делении рода человеческого на две обособленные группы: на человечных людей, то есть добродетельных и доблестно культивирующих разум, как единственное начало, соответствующее в «природе» человека благу, и породу людей, внешне напоминающих еще человека, но, по существу, уже не являющихся таковыми по причине своего вырождения. Последние не могут быть отнесены даже к зверям, так как много хуже их породы (XV, 1 - 174): «Наес saevit rabie imbelle et inutile vulgus... monstri...» («трусливая сволочь», «монстры» - переводит Ф.А. Петровский) (XV, 126 - 172). Собственно, в данном ключевом месте этот образ ксенофобский и дан в связи со случаями каннибализма у египтян. Ксенофобских образов у Ювенала много, особенно в отношении греков, иудеев и других восточных народов. Ксенофобия вообще становится штамповым стереотипом менталитета того времени. Такой известный исследователь культуры данного периода, как В. Сираго, ксенофобию и ее исторические и философские эквиваленты сравнивает с фашизмом, пытавшимся повернуть историю вспять при помощи идеалов национализма в Римской империи.5 Применяясь к рассматриваемому периоду с этим более чем трудно согласится, несмотря на всегдашнюю живость шовинистических тенденций в империях.
Ювенал, все-таки, твердо стоит на позициях стоического космополитизма, синкретизма и толерантности. Он любой из своих этнокультурных ксенофобских образов проецирует на «народ современный (Adspicimus populos)» (Сат. XV, 169). Сортируя людей таким образом, Ювенал игнорирует все категории, кроме моральных. Он вместе с Лукианом и его олицетворенной Стоей мог бы повторить: «Весь вопрос сводится сейчас к тому, следует ли жить подобно свиньям, пригнувшись к земле и не размышляя ни о чем, достойном воспитанного и развитого человека, или считать приятным хороший образ жизни» (Luc. Bis accus., 20).