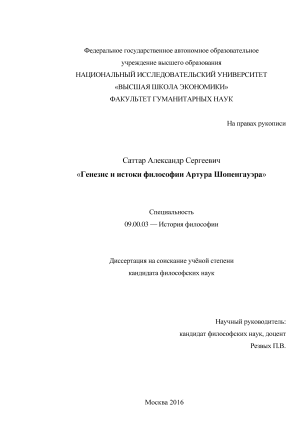Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Ранние годы и Гёттингенский период 33
1.1. Романтизм Шопенгауэра: Вакенродер и Клаудиус 33
1.2. Философия, «единственное утешение» и «Царство божие» 35
1.3. Эстетика «внутреннего»: Платон и Шеллинг 37
1.4. Лекции в Гёттингенском университете. Шульце 40
Глава 2. Берлинский период 43
2.1. Первый Берлинский этап 45
2.1.1. Критика натурфилософии и наукоучения. Задачи философии 45
2.1.2. Познание сверхчувственного: «вспышка очевидности» Фихте, «интеллектуальное созерцание» Шеллинга и «моральный закон» Канта 50
2.1.3. Появление трансценденталистской установки и «Системка» 54
2.2. Второй Берлинский этап 56
2.2.1. Против религии и «Абсолюта» 56
2.2.2. Философия, познание сверхчувственного и «истинный критицизм» 59
2.2.3 «Лучшее сознание», этика и эстетика. Фихте и Шеллинг 62
2.2.4. Истоки понятия лучшего сознания и его этического измерения. Фихте, Кант и понятие воли 66
2.2.5. Истоки учения о «спасении» и Фихте 74
Глава 3. Решающий прорыв (весна-лето 1813 г.) 77
3.1. «Лучшее сознание» и этика 78
3.1.1. Кант и примат воли над разумом 78
3.1.2. Лучшее сознание и практический разум 81
3.1.3. Пессимизм, учение об освобождении и Фихте 84
3.2. «Лучшее сознание» и эстетика 87
3.2.1. «Критика способности суждения», гений, возвышенное и прекрасное 87
3.2.1. Платоновская идея, «объективное», иерархия искусств и Шеллинг 90
3.3. Кант и определение философии: «духовная химия» и теология 92
3.4. Полемика с Кантом и эпистемологическая проблематика 95
3.4.1. Кантианство Шопенгауэра и его ранняя критика Канта 96
3.4.2. «Лучшее сознание» и изменение кантовской теории познания 98
3.5. Диссертация о Законе основания 102
3.5.1. Задача диссертации и Кант 103
3.5.2. Таблица категорий и тело как непосредственный объект 104
3.5.3. Закон основания познания и бытия: разум, идеи и схема 107
3.5.4. Закон мотивации: «воля», свобода и интеллигибельный характер 110
Глава 4. Веймарский и ранний Дрезденский периоды (1814 г.) 113
4.1. Оформление понятия воли 113
4.1.1. Воля и интеллигибельный характер как патологическое и греховное 113
4.1.2. Оформление понятия воли и «метод индусов» 116
4.1.3. Безличный интеллигибельный характер 119
4.1.4. Понятие тела и появление метафизики воли 121
4.2. Истоки нового понятия воли в её связи с телом 124
4.2.1. Понятия воли и тела у Фихте 125
4.2.2. Понятие воли и Шеллинг 128
4.3. От «лучшего сознания» к «познанию» и «резиньяции» 131
4.3.1. От «лучшего сознания» к «познанию» 132
4.3.2. Этика «резиньяции» 136
4.4. Эстетика, философия как искусство и Платоновские идеи 137
4.4.1. «Чистый субъект познания», Шеллинг и Кант 137
4.4.2. «Теоретическое уничтожение мира», «контемпляция» и гений 141
4.4.3. Философия как искусство 143
4.4.4. «Платоновские идеи» 146
4.4.5. Истоки понятия «Платоновские идеи»: Фихте, Гёте и Кант 150
Глава 5. Второй Дрезденский период (1814-1816 г.) 153
5.1. Натурфилософия и аналогия воли 153
5.1.1. Оформление философии природы и Шеллинг 153
5.1.2. Появление «аналогии воли» и Кант 158
5.2. Причинность, «интеллектуальное созерцание», Кант и Фихте 161
5.3. Окончательное оформление философии Шопенгауэра 163
Заключение 166
Библиография и список сокращений 170
- Эстетика «внутреннего»: Платон и Шеллинг
- Познание сверхчувственного: «вспышка очевидности» Фихте, «интеллектуальное созерцание» Шеллинга и «моральный закон» Канта
- Закон основания познания и бытия: разум, идеи и схема
- Оформление философии природы и Шеллинг
Эстетика «внутреннего»: Платон и Шеллинг
Неоднозначного мнения о рецепции Шопенгауэром философии Фихте придерживается в своей монографии «Тело в мысли Шопенгауэра и Фихте» Гарольд Шёндорф3. С одной стороны, по его мнению, именно Фихте, а не Шопенгауэр, впервые включил вопрос о теле в тренсценден-тальную рамку, поскольку оно есть необходимый момент перехода от внутреннего мира к внешнему. Эта мысль присутствует и в «Основах естественного права» и «Системе этики», и в «Наукоучении nova methode», «Изложении наукоучения 1801 г.». Более того, в поздней мысли Фихте («Факты сознания 1810/11») тело и «Я» понимаются как выражения одного и того же4. Кроме того, отмечает Шёндорф, именно после чтения сочинений Фихте и посещения его лекций в бумагах Шопенгауэра можно констатировать сдвиг в понимании концепции тела: из нейтрального эпистемологического медиума познания оно превращается в олицетворение полового влечения, греха и смерти5. При этом с Фихте его продолжает объединять связка тела как существенного момента познания с «Я», идея тела как «Я в созерцании». С другой стороны, однако, в отношении собственно рецепции этих фихтевских идей Шопенгауэром Шёндорф высказывает обоснованное сомнение. Дело в том, что внимательное изучение Шопенгауэром фихтевских работ датируется первой половиной 1812 г., а сходные мысли в его манускриптах появляются только через год. Вообще же влияние концепции Фихте на Шопенгауэра он считает сомнительным.
В отличие от многочисленных работ, как голословно указывающих на сходства философии Шопенгауэра с философией Шеллинга6, так и представляющих собой тщательный, но лишь Schopen сравнительный анализ их главных работ1, скрупулёзное исследование Сандро Барберо действительно и убедительно показывает важную роль Шеллинга в формировании шопенгауэровской натурфилософии2. Кроме того, многократно отмечалось, что критика кантовской философии со стороны Шульце и личное общение с последним оказало серьёзное влияние на молодого Шопенгауэра и его критическое отношение к Канту и его последователям3. Другой автор, напротив, считает сходства шульцевской критики Канта и шопенгауэровской критики поверхностным и, тем не менее, приводя целые страницы перекличек между концепциями философов4.
На основании слабых текстуальных и биографических доказательств другой исследователь утверждает влияние Гердера на Вторую, Третью и даже Первую книги «Мира как воли и пред-ставления»5. В более убедительной, но и в более осторожной форме этот тезис высказывает Артур Хюбшер, говоря, что с точки зрения истории идей шопенгауэровская динамическая лестница сущего, на разных ступенях которой находит разной степени полноты выражение единая духовная сила, приписываемая миру по аналогии с внутренней жизнью индивида, наследовала Гердеру. Ведь именно Гердер первым дал толчок для естественной истории, рассматриваемой как сообразность духа и материи. С точки зрения всё той же истории идей, говорит Хюбшер, Шопенгауэр наследовал также Кильмайеру, Шеллингу, Риттеру, Баадеру и Фр. Шлегелю; впрочем, признаётся Хюбшер, соответствующих работ Кильмайера и Шеллинга Шопенгауэр не знал6. Наконец, исследование философий Шопенгауэра и Рейнгольда Бондели также носит лишь компаративистский характер7.
Неудивительно, что в рамках истории идей возникло большое количество литературы, в которой делается попытка поместить начальную точку генезиса шопенгауэровской философии в литературе и культуре немецкого романтизма. Со времен «Шопенгауэра» Рудольфа Гайма главным девизом таких работ стала следующая мысль: «В ней (в шопенгауэровской философии – А.С.) мы слышим мощный отголосок романтизма. Даже если Шопенгауэр и не вышел непосредственно из романтической школы, но главные его идеи взросли на той же почве, что и идеи подлинных романтиков, т.е. в мистических глубинах внутреннего мира»1.
Рюдигер Сафрански отмечает влияние пиетистской мистики поэта Маттиаса Клаудиуса2. Его интровертивный настрой и эскапизм Сафрански даже называет определяющим для юности Шопенгауэра3. Кроме того, Сафрански проводит недвусмысленную параллель между «религией искусства» романтиков и шопенгауэровским поиском новой религии освобождения от уз пошлой мещанской повседневности. В частности, он указывает на истоки шопенгауэровского восхищения музыкой как средством спасения от «колеса» воли в «Удивительном восточном сказании об обнаженном святом» Вакенродера. Он также указывает на «романтический» характер шопенгауэровских метафор и аллюзий4.
Артур Хюбшер тоже прямо говорит: «”Мир как воля и представление” появилась на свет из романтической среды в том виде, который она приняла в 1810-1820 гг.»5. И всё же он скептически смотрит на попытки отыскать у Шопенгауэра связь с романтической тоской по бесконечному, иррациональному и ночному, утверждение кажимости реальности дневной, обыденной, постулирование несчастного по существу характера существования, романтическое желанием бегства в иной, лучший мир, культ жизни как вечно творческого и всепроникающего начала, чувство превосходства бесформенного и бесконечного над конечным и оформленным, «чувство мира» (Weltgefhl), открытость прекрасному, романтическую концепцию гения, поиск душевной родины, тягу к недостижимым далям, загадочному и не данному непосредственно, бегство в древность и т.д. По мнению Хюбшера, Шопенгауэр был рациональным и систематическим мыслителем, и переклички его мысли с романтической по большей части лишь случайны6.
В то же время Хюбшер указывает и на некоторые действительные связи философии Шопенгауэра с немецким романтизмом: глубокое переживание музыки (рубеж 1806-1807 гг.), увлечение мистикой (начиная с зимы 1811-1812 гг.) и увлечение индийской философией (зима 1813/1814 гг.). Помимо прочего, частично известен и круг чтения Шопенгауэра, в который входили Шиллер, Гёте и Вакенродер, а также христианские драмы Захария Вернера. По мнению Хюбшера, именно через романтиков (Баадер, Шеллинг) Шопенгауэр, возможно, пришел к Бёме, 1973. S. 30-63. у которого позаимствовал понятие воли к жизни. Центральный тезис его зрелой философии о сущностном единстве мира как воли, обнаруживаемой внутренним созерцанием, находит примеры и в романтической литературе1.
Он также отмечает ту роль, которую Гёте сыграл в жизни Шопенгауэра: «У Гёте Шопенгауэр нашел созерцательность и ясность мысли, которая может познать всё наличное… любовь к морфологическим исследованиям, отход от бесконечного, недоверие к истории, симпатию к античности и отторжение далеких беспредельных романтических сфер. Как и Гёте, он отдает предпочтение классической поэзии… перед романтической»2. Хюбшер полагает, что своё понятие гения Шопенгауэр выковал по образу и подобию Гёте, хотя и с несвойственной ему меланхолией. «Вполне можно сказать, что шопенгауэровский труд вырос непосредственно из встречи с Гёте. Уже в 1814 г. («Год Гёте»), по его собственному свидетельству, все основания его учения уже утвердились, соединились и приобрели очертания и уверенность в собственной сфере – которая далеко уводила юного мыслителя от романтизма и… Гёте»3.
Хюбшер также касается темы «Шопенгауэр и романтизм»4, в основном делая акцент, впрочем, на подростковом увлечении Шопенгауэра пиетистским поэтом Маттиасом Клаудиусом и на его неприятии религиозной догматики. По ничем не подкреплённому мнению Хюбшера, риторика, которой пользуется при описании «лучшего сознания» Шопенгауэр, отсылает к пие-тистской мистике. Кроме того, вопреки известной нам хронологии, именно сочинения мистиков вроде Силезского Ангела и Якоба Бёме, по мнению Хюбшера, привели к доктрине отрицания воли к жизни и квиетиву как моральному идеалу5. В целом, исследования по этому аспекту генезиса и истоков шопенгауэровской философии страдают от тех же недостатков, что и исследования связи Шопенгауэра и романтизма6.
Познание сверхчувственного: «вспышка очевидности» Фихте, «интеллектуальное созерцание» Шеллинга и «моральный закон» Канта
Вполне разочаровавшись в спекулятивной мысли, Шопенгауэр пытался найти более удовлетворительное определение философии и её методологии. Однако его собственные дефиниции становились не яснее, а, напротив, только эклектичнее. Так, по-видимому отождествляя философию и «истинный критицизм», последнему он приписал функцию отделения «высшей сокровеннейшей сущности» от «рассудка»3. Иначе говоря, философия, или критицизм, должна «отделять лучше познание от этих [эмпирических] условий и познавать двойственность (Duplicitt) своего бытия», а также познать «их [обоих родов его бытия] единство»4. В соответствии с таким определением, философия должна отделять саму себя в эзотерическом понимании (как познание сверхчувственного, независимое от понятий и эмпирических созерцаний) от самой же себя в трансценденталистском понимании (как понятийной рациональной артикуляции такого познания). Впрочем, саму эту двусмысленность шопенгауэровской дефиниции философии можно объяснить тем, что Фихте (её наиболее вероятный первоисточник) тоже не проводил различия между актом свободы-познания и системой знания о нём5.
Различение философии и религии приводит к тому, что Шопенгауэр связывает существо первой не просто с пассивным восприятием откровения извне, из сверхчувственной сферы, а с некоей интеллектуальной операцией, в том числе с абстракцией: «Подлинная философия, будучи чем-то более высоким, чем всякая возможная религия, должна понять и постичь её; в бу дущем она [подлинная философия] отдаст ей должное и осознает, что то, что та называет Богом (или как ещё сочтёт нужным), есть то же самое, что философия постигает более абстрактно, яснее и (будучи свободной от всего лишнего) непреложно»1.
Вопреки этому «аналитическому» определению, в другом месте Шопенгауэр определял философию «синтетически», отмечая в комментарии к «Филебу» Платона, что «истинный критицизм» есть то, что Сократ называл «даром богов», т.е. знание «о том, что всё, из чего состоит вечносущее, состоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся предел и беспре-дельность»2. С этим же определением связана уверенность Шопенгауэра в том, что философия именно тем отличается от всякой другой интеллектуальной деятельности, что ищет некую глубинную причину («Почему») явлений, тогда как все остальные науки – лишь их поверхностные свойства («Как»)3. Эта точка зрения впервые отчётливо выражается Шопенгауэром в его резюме первой лекции Фихте «О фактах сознания», в которой тот называет началом философии выражение «das philosophische Befremden ber die Welt»4, одновременно имея в виду и удивление более высокого сознания более низкому, обыденному, вместе с составляющими его частными восприятиями, и то отчуждение, отстранение одного сознания от другого, которое становится результатом этого Главаения на более высокое и более низкое сознания (см. ниже).
Радикальному дуализму способов познания и его объектов в манускриптах Шопенгауэра данного периода соответствуют два типа философии. Первый тип познаёт реальность саму по себе, пользуясь «созерцаниями фантазии», обращаясь не к слепкам вещей, а к оригиналу и только божественному приписывая подлинную реальность. К нему относятся «истинные философы» во главе с Платоном, а вершина такой философии – истинный критицизм. Второй тип – это быстрая, но поверхностная и синкретичная мысль, приспособленная к научной деятельности, но ничтожная в философии. Вершина второго типа философии – Аристотель5.
Повторяя общее место немецкого идеализма (а, в конечном итоге, одной из основных вольфианских установок), Шопенгауэр приписывает теоретической деятельности практическое измерение. В глоссе к одному месту из шеллинговской «Философии и религии», в котором автор связывал интеллектуальное созерцание с моральной деятельностью, Шопенгауэр перенимает шеллинговские установки и пишет: «Истинный, т.е. критический, философ должен в теоретической сфере совершать то, что добродетельный человек совершает практически. А именно, последний не возводит в абсолют желание, присущее ему вследствие его чувственной природы, а следует за лучшей волей в себе (dem bessern Willen in ihm), не связывая её с желанием (Begehren), например, с какой-то наградой; он желает блага не относительно, а абсолютно. Точно так же настоящий критический философ освобождает своё лучшее познание (sein beres Erkennen) от условий эмпирического познания, не переносит их в него (как чувственный человек переносит свои чувственные радости в рай, поскольку он сам без них туда войти не захочет); он не нуждается в них, словно в мосте, чтобы объединить оба мира (как чувственный верующий нуждается в награде, словно в мосте к добродетели). Напротив, он холодно и непоколебимо оставляет позади себя условия своего эмпирического познания, удовлетворенный тем, что совершенно отделил лучшее познание от эмпирического и познал двойственность (Duplicitt) своего бытия. И если она кажется ему двумя параллельными линиями, то он не пытается изогнуть их, чтобы свести в одну; наоборот, даже предполагая, что в какой-то точке они сходятся, он продолжает познание этих двух родов своего бытия и доводит оба до состояния яснейшего сознания (zum hellsten Bewutseyn) и ждёт, не достигнет ли он той точки, в которой он познает их объеди-нение»1.
Так Шопенгауэр попытался дистанцироваться от шеллинговского понимания сущности познания и роли «двойственности» в нём, отвергнув его попытки «насильно» и «искусственно» свести познание реального и идеального в единство (тем более что уничтожение двойственности сознания будет значить уничтожение именно того условия, благодаря которому оно существует2). Однако в силу того, что речь идёт о единстве познания «внешнего», «материи» (реального) и «внутреннего», «формы» (идеального) в некоем метафизическом смысле, становится ясно, что Шопенгауэр в целом принимал эту схему познания – лишь приписывая этот синтез не философии, а состоянию «яснейшего сознания». Последнее нельзя артикулировать ни в философском, ни в каком-либо другом языке, оно полностью чуждо гетерономным, патологическим импульсам. Впоследствии этот род познания, как и его объект, Шопенгауэр назвал «лучшим сознанием». Стоит отметить, однако, что понятие «лучшей воли в себе», с которой Шопенгауэр связывал освобождение от эмпирического, и вообще этот манифест «истинного философа», действующего согласно чистому интересу разума, имеют кантианский характер. В свою очередь, критикуя позицию Шеллинга, Шопенгауэр следовал самому же Шеллингу3.
Закон основания познания и бытия: разум, идеи и схема
Шопенгауэр выделяет в качестве отдельного предмета третьего лика Закона основания «фантазмы» (Phantasmata) – воспроизведение в другом составе уже воспринятых ранее образов (способность к ним он называет фантазией)2. Фантазмы могут вытеснить сознание непосредственного объекта, и тогда освобождение от их ирреальности и возвращение «объективного» опыта в качестве содержания сознания предполагает, что объектом восприятия снова стал непосредственный объект. Таким образом, тело в качестве способности синтеза становится условием возможности не просто опыта вообще, а связного опыта, отличного от фантазий и случайных образов: поэтому-то мы и не можем управлять восприятиями во сне, ведь в таком положении тело нами не воспринимается, значит, не является непосредственным объектом3.
Следующая самостоятельная способность познания, которую разбирает Шопенгауэра – разум. Шопенгауэр определяет его терминологически неотличимо от фихтевских дефиниций как «способность представления представлений (das Vermgen der Vorstellungen von Vorstellungen), или понятий»4. Однако содержательно определение Шопенгауэра гораздо ближе к Канту. Понятия, будучи уже отрефлексированными представлениями, всегда абстрактны, всеобщи. С другой стороны, способностью, которая ответственна за их образование, является не рассудок, а разум; он же оперирует ими, т.е. выводит умозаключения: «Разум есть также и способность связывать понятия, т.е. [способность] суждений и соединения их определённо данным образом с умозаключениями. Наличие этого класса представлений, иными словами, деятельность разума, есть мышление в собственном смысле слова»5. И всё же функция разума не сводится к технической переработке представлений в универсальные понятия и принятие решений. Дело в том, что способность к формированию понятий и вынесению суждений Шопенгауэр называет нашим главным отличием от животных и по-кантиански определяет как «условие свободы»6. Этот вариант решения проблемы различения разума и рассудка в целом перейдёт в зрелую шопенгауэровскую философию.
Третий класс объектов – предметы чистого созерцания, т.е. априорные формы чувственности – пространство и время. В отличие от объектов первого и второго классов, они не включены в каузальное взаимодействие и не представляемы конкретно, в качестве «образа», но только созерцаемы (таковы математические истины)1. Однако для нашей темы важнее то, что именно в этой главе Шопенгауэр вводит в свой словарь термин «нормальные созерцания» (Normalan-schauungen) в качестве обозначения чистых форм всякого явления. Само выражение берёт начало в кантовской эстетической «идее нормы» (Normalidee) и, в самом деле, определяется Шопенгауэром через соотношение с идеей, но в совершенно неожиданном смысле: «[Нормальные созерцания] всеобщи, поскольку они являются только лишь формами всякого явления, и как таковые они действительны в отношении всех реальных объектов, к которым такая форма прилагается (zukommt). Поэтому по отношению к этим нормальным созерцаниям, даже в геометрии, так же как и по отношению к понятиям, было бы справедливо то, что Платон говорит о своих идеях, а именно, что не может существовать двух одинаковых, поскольку они были бы одним и тем же»2.
Сравнение нормальных созерцаний и платоновских идей не ограничивается принципом тождества неразличимых, и в сноске к этому месту Шопенгауэр добавляет: «Возможно, платоновские идеи можно описать не как нормальные созерцания, которые относятся не только к формальному, как математические, но также и к материальному целокупных представлений – т.е. как целокупные представления, которые как таковые были бы всесторонне определены, но, одновременно, как и понятия, могли бы объять собой многое, т.е…. как репрезентанты понятий (Reprsentanten der Begriffe), которые им, однако, были бы совершенно адекватны»3. Это понятие призвано было объяснить возможность синтеза опыта после того, как Шопенгауэр отверг кантовские понятия продуктивного воображения и рассудка4, однако в действительности с его помощью Шопенгауэр заложил основу для расширения понятия «нормального созерцания» и придания ему онтологического смысла. Эти два пассажа сыграли ключевую роль в формирования концепции Платоновской идеи.
Другим провозвестником позднейшего учения о Платоновских идеях стал позаимствованный Шопенгауэром у Канта термин «схема», который он связал с применением Закона основания бытия ко времени: «В качестве такового [т.е. в качестве времени] выступает простая, содержащая только существенное всех прочих ликов схема Закона достаточного основания, более того – прототип всего конечного (der Urtypus aller Endlichkeit)»1. В учении о схематизме, способном включать в себя всё «существенное», Шопенгауэр некоторое время пытался найти теоретическую возможность познания всеобщего, универсального, не отмеченную, в то же время, понятийной работой разума и сохраняющего непосредственность (следовательно, высшую достоверность). В этом он, разумеется, следовал Канту, поскольку для последнего трансцендентальная схема тоже была необходимой смычкой между чувственным характером созерцаний и интеллектуальным характером понятий, придающей последним значение2. Однако кантовское подчинение синтеза посредством способности воображения категориям рассудка означает производный характер схемы. Напротив, задача навести мост между абстрактностью, всеобщим и необходимым характером понятия и конкретностью образа, непосредственностью созерцания как раз и означает для Шопенгауэра отказ от рассудочного (понятийного) в пользу прямой передачи непосредственно познанного. Последнее означало для Шопенгауэра адекватное сообщение разуму метафизического познания (лучшего сознания)3.
Возможно, Шопенгауэр отдавал себе отчёт в несовместимости технического характера кантовской «схемы» и метафизического характера этого понятия в своём учении. Во всяком случае, он предложил термин, ещё более отчётливо подчёркивавший разницу между этими двумя толкованиями «схемы» и противопоставлявший её понятию как интуитивное, непосредственное знание – знанию опосредованному: «Я отрицаю, что схема и образ (Bild) отличны друг от друга. Образом, или схемой, я называю репродукцию чувственного созерцания посредством способности воображения; поэтому его содержание всегда единично и, следовательно, является детерминированным объектом – в соответствии со всеми определениями схемы, или образа. Поэтому я называю схему, или образ, непосредственным представлением»4.
Оформление философии природы и Шеллинг
Его аргументацию можно представить следующим образом. Я познаю себя не только a posteriori как действующего, но и a priori как волящего; при этом другие тела как представления первого класса апостериорно познаются тоже действующими. Далее, «движения происходят либо по причине, либо безосновно (grundlos), т.е. посредством силы, т.е. воли; я наблюдаю это на примере изменений в моём теле»1. Несмотря на то, что до сих пор этот аргумент напоминает классическую формулировку аналогии воли, далее Шопенгауэр отождествляет «безосновность» воли, проявляющейся в теле, не со всеми явлениями вообще, а только с «основными, элементарными, первоначальными действиями» – такими, например, как сила тяжести. Поскольку такие фундаментальные силы невозможно объяснить через действие закона причинности без reductio ad infinitum, мы можем заключить, что их исток таков же, каков исток действий моего тела – т.е. воля в виде природных «сил» (Krfte)2.
Как мы видим, это рассуждение покоится на том допущении, что в мире явлений нечто может не иметь причины (в данном случае – фундаментальные силы природы), т.е. как раз на том, что требуется доказать. В позднем примечании к этим соображениям Шопенгауэр и сам признаёт это: «Не годится. Исправление всего отрывка. Понятие безосновного движения, т.е. фундамент всей этой дедукции, противоречиво и неудовлетворительно»3. Более того, при этом он не только отбросил понятие силы как ничего не объясняющее4, но и придал аргументу тот вид, в котором он вошёл в «Мир как воля и представление», т.е. по аналогии с собственной волей описывая все явления вообще, а не только «основные силы»: «Только упрямый скептицизм может предполагать, что схожее явление не обладает схожей внутренней сущностью. Значит, всё, что дано мне как представление, точно так же, как в виде представления мне дано моё тело, должно обладать такой же внутренней сущностью, т.е. быть объектностью воли»5.
Итак, в первой половине 1815 г. в шопенгауэровских манускриптах появляется то, что впоследствии получит название «аналогии», а в исследовательской литературе – terminus technicus «заключение по аналогии» (Analogieschluss)6. Этот ход подвёл, наконец, философское обоснование под натурфилософский проект мыслителя. Впоследствии Шопенгауэр стремился подчеркнуть лишь «метафорический» характер этой аналогии, стараясь держаться границ разума, положенных ему кантовской критикой. Знаменательно, впрочем, что сам натурфилософский замысел, который эти границы очевидным образом переходил, Шопенгауэр оправдывал авторитетом Канта, поскольку и сама «аналогия воли», судя по всему, была вдохновлена его сочинениями.
Существует сразу три кантовских текста, с которыми может быть связано оформление этого аргумента. Во-первых, некоторые исследователи связывают шопенгауэровское заключение по аналогии с кантовской «аналогией опыта» из «Критики чистого разума»1. Во-вторых, уже в «Пролегоменах» Кант писал: «Когда я говорю: мы вынуждены смотреть на мир так, как если бы он был творением некоего высшего разума и высшей воли, я действительно говорю только следующее: так же как часы относятся к мастеру, корабль – к строителю, правление – к властителю, так чувственно воспринимаемый мир (или все то, что составляет Основу этой совокупности явлений) относится к неизвестному, которое я хотя и не познаю таким, каково оно есть само по себе, но познаю таким, каково оно для меня, а именно по отношению к миру, часть которого я составляю… Такое познание есть познание по аналогии, что не означает, как обычно понимают это слово, несовершенного сходства двух вещей, а означает совершенное сходство двух отношений между совершенно несходными вещами»2.
Наконец, наиболее вероятным истоком шопенгауэровской аналогии воли является кантов-ская «целесообразность без цели». В самом деле, понятием цели, особого вида каузальности, «некое умствование» пользуется «не из объектов и их познания в опыте», а «скорее для того, чтобы сделать природу понятной по аналогии с субъективным основанием связи представлений в нас, чем для того, чтобы познать ее из объективных оснований». Как мы помним, именно поэтому «телеологическое суждение… по праву вводится в исследование природы» – «лишь для того, чтобы по аналогии с целевой каузальностью подвести его под принципы наблюдения и исследования, не пытаясь объяснить его таким образом»3. Соответственно, в этой идее находится исток и двусмысленности статуса этой «аналогии» одновременно и как «только» метафоры, и как медиума истинного познания4.
С завершением диссертации о Законе основания эпистемологическая проблематика не перестала занимать Шопенгауэра – напротив, именно последовательные выводы из установки на критику разума привели его к отказу от концепции лучшего сознания как от спекуляции, запрещённой критической трансцендентальной философией. Однако после публикации его первого сочинения гносеологические вопросы отошли на периферию его интересов. Осуждая педантов, предпочитающих зрение, факел (разум как инструмент) тому, что он помогает увидеть, освещая, т.е. природе вещей, Шопенгауэр утверждал, что метафизику невозможно построить на основе понятийной деятельности, поскольку она имеет скорее интуитивный характер1. Соответственно, в последующие годы он относился к теории познания скорее как к органону, чем как к самоценной части философии, и лишь корректировал свои взгляды в этой области, смещая акценты, уточняя основные положения и понятия и разрабатывая второстепенные.
В связи с развитием метафизики воли любопытное продолжение получила в шопенгауэровских черновиках тема «реальность внешнего мира». Как мы помним, в диссертации о Законе основания утверждалось, что залогом реальности служит связь представлений с непосредственным объектом познания, т.е. телом; теперь тело тоже играет главную роль, но уже не в транс-ценденталистском смысле, а в метафизическом – в той мере, в которой оно является объективированной волей. Именно через то, затронут ли наш интерес (т.е. наша воля) представлениями или нет, и определяется, стоит ли за ними реальный мир3.
Уже в диссертации о Законе основания Шопенгауэр особое место отводил категории причинности: согласно его воззрениям того периода, заключение из следствия (из факта воздействия внешних вещей на непосредственный объект – тело) к причине происходит только в рассудке, причём бессознательно. Однако в 1813 г. рассудок и чувственность философ ещё считал разными способностями. В более поздних заметках чистая чувственность уже потеряла свою автономию от рассудка, и именно последний стал условием и инструментом превращения «мёртвой массы» материи (ощущений) в собственно «объект»1. Соответственно, по мере отказа от кантовской эпистемологии Шопенгауэр отбросил его таблицу категорий и заявил об интеллектуальности вообще всякого созерцания на основе «одной-единственной» категории причинности, к способности которой «объединять пространство и время» вся деятельность рассудка и сводится2.
Впрочем, мысль о невозможности «сырого» опыта, ещё не опосредованного работой рассудка, возникла уже в 1812 г. в ходе полемики с Фихте и Кантом. В заметке к 1 тому собрания сочинений Шеллинга Шопенгауэр записал: «На с. 295 написано, что понятия – это абстракции, а это неверно, потому что чувства не познают без рассудка, так что понятие имеется уже в первом восприятии. Без категорий нет представления… Понятия – это ”связующие (integrierende) составные части” нашего первоначального способа созерцания»3. Некоторые исследователи утверждают, что эта мысль возникла под влиянием Фихте, в прочитанных Шопенгауэром работах которого, действительно, можно найти постулат об интеллектуальности всякого созерцания – ведь Фихте тоже выступал против «чистой чувственности» в кантовском смысле, поскольку восприятие возникает только через приложение закона причинности к сырому материалу4. Другие исследователи предполагают влияние Шульце5.