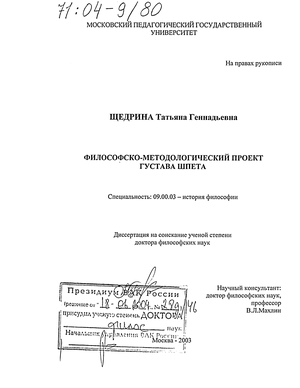Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философский архив: проблемы интерпретации
1.1. Архив как коммуникативный контекст в историко-философских реконструкциях 28
1.2. Роль эпистолярного наследия в реконструкции коммуникативной реальности философского сообщества 50
1.3. Критический анализ историко-философских интерпретаций шпетовской философии (архив как эксплицирующий фактор) 68
Глава 2. Основные принципы философского проекта методологии гуманитарного знания Г. Шпета
2.1. Общая характеристика контекста формирования философско-методологической концепции Густава Шпета 83
2.2. Развитие философско-методологического проекта Шпета: между диалектикой и феноменологией 108
2.3. Методология гуманитарного знания Густава Шпета 128
Глава 3. Шпет в коммуникативном пространстве русского философского сообщества .
3.1. Густав Шпет и Владимир Соловьев: филиация идей 151
3.2. Общение Г. Шпета с Л. Шестовым С. 192 - 204
3.3. Шпет и Гершензон. Сравнительный анализ философских интерпретаций творчества А.С. Пушкина 205
3.4. У истоков русского структурализма и семиотики (Шпет и Якобсон) 224
Заключение С. 240 - 242
Список источников и литературы С. 243 - 260
- Роль эпистолярного наследия в реконструкции коммуникативной реальности философского сообщества
- Развитие философско-методологического проекта Шпета: между диалектикой и феноменологией
- Общение Г. Шпета с Л. Шестовым
- Шпет и Гершензон. Сравнительный анализ философских интерпретаций творчества А.С. Пушкина
Введение к работе
Философские и теоретические идеи Густава Густавовича Шпета (1879-1937) приобретают особое звучание в современном научном и философском сообществе. Они задают направленность концептуальных поисков современных исследователей, становясь точками столкновения различных позиций в философских спорах, открывают новые возможности решения проблем в профессиональных сферах, оказываясь связующим звеном целого ряда исследовательских направлений, как философских, так и специально научных. К творчеству Шпета обращаются в наше время психологи, философы, лингвисты, историки и это не случайно. Почему сегодня Шпет столь актуален? Думаю, что актуальность идей Шпета связана с тем, что в нем соединялись вещи, казалось бы, не очень совместимые. Творческий философский поиск Шпета - целостное единство экзистенциальных устремлений и научно-философского профессионализма; западной логической культуры и удивительной, внешне неуловимой интонации русского философского опыта мышления, выраженной во внутреннем мире разговора, в личном общении русских мыслителей. Поэтому наиболее адекватным для обозначения целостной философской позиции Шпета является термин «философско-методологический проект». В исследованиях, посвященных шпетовскому философскому наследию, уже была предпринята попытка подобного определения. Так, С. Мазур характеризует целостную философско-методологическую концепцию Шпета как «научно-философскую программу»1, пытаясь вписать ее в контекст современной философии науки. Однако такое определение существенно ограничивает сферу исследования философского наследия Шпета, поскольку из поля зрения
Мазур СЮ. Обоснование гуманитарного знания в философии Г.Г. Шпета: логический и методологический аспекты: Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 2000. С. 8.
выпадают экзистенциальные элементы его целостной философской
^ позиции. Поэтому я думаю, что термин «проект» в данном случае более
уместен, поскольку позволяет в процессе исследования сохранить
экзистенциальную направленность философского поиска Шпета. Я
опираюсь на истолкование этого термина у Ж.П. Сартра. Он определяет
«проект» как «объективированную субъективность», что позволяет
учитывать реакцию на «некоторую ситуацию в обществе», когда
^ определенный недостаток или нехватка чего-либо побуждает преодолеть
ее и когда, соответственно, поведение «должно детерминироваться не только обусловливающим его отношением к реальным, имеющимся налицо факторам, но и отношением к определенному будущему объекту, который оно стремится вызвать к жизни»2. Проект никогда не реализуем окончательно, его невозможно объективировать в полной мере, однако он
Ф неявно присутствует в каждом созданном произведении, становясь своего
рода внутренней формой индивидуальных философских размышлений и пронизывая все сферы конкретных объективации субъекта историко-философского процесса. Проект имеет коммуникативную природу, он конституируется не только в процессе обмена научными и философскими идеями, в полемически заостренных содержательных философских текстах, но и в сфере повседневного познавательного опыта, в процессе
ф непосредственного общения философов друг с другом. Именно этот синтез
делает Шпета своеобразным и позволяет ему быть актуальным сегодня. Истоки актуальности шпетовских идей в том, что его профессиональные философские размышления были погружены в русский контекст, который можно определить как коммуникативное пространство философского сообщества. Эту тематику невозможно исследовать, не обращаясь к
^ письмам Шпета, его дневникам, т.е. повседневному общению, поскольку
именно в сфере повседневного разговора и выражается специфика
2 Сартр Ж.П. Проблемы метода. М, 1994. С. 112 - 114.
русского философского общения. Как представляется, такой синтез актуален еще и потому, что позволяет не только понять и интерпретировать философскую позицию Шпета в ее целостности, но и прояснить реальную коммуникативную ситуацию в современном философском сообществе.
Степень разработанности проблемы
Научные и философские идеи Густава Густавовича Шпета достаточно хорошо известны в широких кругах отечественных ученых, но, как отмечали многие его современники, произведения этого мыслителя, написанные блестящим русским языком, тем не менее, требуют от читателя профессиональной подготовленности в тех областях знания, которых он касался3. Для актуализации шпетовского идейного наследия сегодня тем более необходима высокая научная и философская эрудиция. Обращение к шпетовскому творчеству ведущих российских и зарубежных философов, ученых, деятелей культуры - яркое подтверждение плодоносности его философских идей и методологических поисков.
Философские произведения самого Г.Г. Шпета начали публиковать у нас в стране сравнительно недавно, в последнее десятилетие XX века, при активном содействии наследников. Исследователи ведут активные архивные изыскания, результатом которых явилась публикация его основного, как считают некоторые философы, труда - «Герменевтика и ее проблемы» (1918), а также других сочинений, конспектов лекций, статей, посвященных исследованию гуманитарной проблематики.
Как считал сам Шпет, для того, чтобы «голос автора зазвучал», нужен не только слушатель, читатель, но и интерпретатор. Активная интерпретация шпетовских идей в современной отечественной
Блонский П. Рецензия на книгу Г.Шпета "Явление и смысл"// Голос Москвы. 1915. № 65.
гуманитаристике началась в последние десять лет, о чем свидетельствует множество статей, диссертаций, международных и российских конференций, посвященных творчеству Г.Г. Шпета. О нем писали феноменологи, филологи, психологи, литературоведы и др. Их методологические усилия были направлены на обнаружение и последующее фиксирование узловых моментов шпетовской проблематики. Однако задача актуализации идей Шпета, проблема включения их в современный научный и профессиональный контекст остается открытой на сегодняшний день.
Идеи Шпета актуализируются и реализуются с учетом всех направлений гуманитарных исследований. Но наибольший интерес у современных исследователей вызывает его интеллектуальный опыт осмысления проблем герменевтики и феноменологии. Среди современных работ методологического характера особое значение приобретает монография В.Г. Кузнецова «Герменевтика и гуманитарное познание», в которой анализируется метод «феноменологической герменевтики» Шпета. В.Г. Кузнецов считает, что «Шпет представляет развитие герменевтических идей как единый процесс, направленный от практических герменевтических методик, предназначенных для удовлетворения запросов теологии, истории и филологии... Герменевтические вопросы возникают там, где зарождается желание отдать себе сознательный отчет в роли слова как знака сообщения» . Большой интерес к герменевтическим идеям, разрабатываемым Шпетом, проявляет и А.А. Митюшин, который считает, что «смысл логических исследований Шпета состоял в том, чтобы разработать диалектическое учение о понятии, прежде всего на почве «естественного языка», а затем — на материале его терминированных модификаций в отдельных науках....
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М, 1991. С. 13.
Вообще всякий путь от знака или слова в его данных внешних формах к его смыслу Шпет и называет пониманием»5. Проблема понимания, интерпретации находит свое отражение в работах А.Г. Вашестова. В своих работах он показал, что Шпет своим учением об активной интерпретации как попытке разрешения проблемы герменевтического круга предвосхищает М. Хайдеггера. «Шпет ...рассматривает герменевтику как онтологическую науку, и этот тезис вслед за Хайдеггером развивал позднее Гадамер. Шпет первым поставил проблему традиции, как условия понимания, выступающую в органической связи с историческим детерминизмом»6. Тема соотношения герменевтических проектов Шпета и Дильтея развивается на страницах монографии Н.С. Плотникова. Он приходит к выводу о том, что «рецепция идей Дильтея Шпетом хронологически предшествовала восприятию феноменологии Гуссерля и развивалась параллельно с последним. Это обстоятельство, вероятно, и создало предпосылки того, что Шпет с самого начала определил свой "путь в феноменологии" как "герменевтическую феноменологию"»7.
Но не только отечественные исследователи обращаются к междисциплинарной методологии Шпета. За последние 20 лет возрос интерес к его творческому наследию и за рубежом. Об этом свидетельствуют конференции в США (1985) и ФРГ (1986), а также появление в Венгрии центров по изучению русской философии и литературы: Институт славянской и балтийской филологии Будапештского университета, Венгерская академия наук и два философско-литературоведческих журнала «Helicon» и «Studia Slavica». Известные слависты: Л Силард, Е. Паткош, А. Хан, Т. Някаш и другие
5 Митюшин А.А. Творчество Г. Шпета и проблема истолкования действительности //
Вопросы философии. 1988. №11. С. 95.
6 Феноменология и её роль в современной философии (Материалы «круглого стола») //
Вопросы философии. 1988. № 12. С. 76.
7 Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея. М,
2000. С. 199.
предпринимают попытки сопоставления герменевтики Шпета с работами других мыслителей, уделявших внимание проблемам языковой укорененности проблем культурной идентификации. Например, доцент Будапештского университета А. Хан занимается сопоставлением философских самоопределений Г.Г. Шпета и Б.Л. Пастернака. Параллельно эту тему разрабатывают французские исследователи: Lazar Fleishman, Hans-Bernd Harder, Sergei Dorzveiler, написавшие предисловие к уникальному двухтомнику — «Boris Pasternak Lehrjahre. Неопубликованные философские заметки и конспекты Бориса Пастернака»8. Сопоставляя творчество Шпета и Пастернака, и А. Хан, и французские исследователи обращают внимание на то, что, будучи учеником Шпета, Пастернак продолжил развивать его идеи, но Пастернаку свойственна художественная форма осмысления проблем формирования исторического сознания. Не менее интересны работы Г. Шмид, которая реконструирует шпетовскую концепцию структурной истории литературы, обращая внимание на принципиальную значимость шпетовской методологии гуманитарного исследования. Т. Някаш рассматривает эстетические воззрения Г. Шпета в контексте его герменевтической концепции. Она подчеркивает, что «вера Шпета в расцвет культуры опирается на его гносеологический оптимизм, ведь он утверждает, что словесное выражение и все проявленные факты культуры обладают смыслом, и этот смысл подлежит раскрытию и выявлению»9.
Изучению методологии Г. Шпета посвящен целый ряд работ итальянских исследовательниц: М. Вендитти и М.К. Гидини. Они подчеркивают, что «в Италии, как и вообще на Западе, труды Шпета
Boris Pasternak Lehrjahre. Неопубликованные философские заметки и конспекты Бориса Пастернака. Stanford, 1996.
9 Иякаш Т. Эстетические воззрения Густава Шпета и некоторые особенности поэтики постсимволизма // Г.Г. Шпет. Comprchensio. Третьи Шпетовские чтения. Томск, 1999. С. 139.
известны только среди славистов, изучающих русскую мысль 20-х годов, и в основном благодаря упоминанию их в работах Р. Якобсона, М. Бахтина, Л. Выготского и других ученых»10. М.К. Гидини и М. Вендитти приходят к выводу, что Шпет разработал оригинальный метод изучения исторического источника, дающий наиболее объективную его характеристику и интерпретацию. Этот метод позволяет выделить четыре описательных уровня, переплетающихся между собой: писатель, автор произведения (биографические данные); текст (художественный, исторический и т.д.), его внешняя характеристика - план, сюжет, герои текста и т.п.; история (исторический фон, на котором происходят определенные события изучаемого текста.); общество, культура, быт — как неотъемлемая часть изучения какого-либо события текста, как исторического факта. Итальянские исследовательницы полагают, что «...Шпет рассматривает проблемы, подразумеваемые интерпретацией как таковой, проблемы, присущие по мнению автора, современному философскому сознанию, которые он выявляет, предлагая историю в ходе развития герменевтической мысли. Проблемы герменевтики ...как подлинная тема его размышлений, это по сути проблемы гносеологического и семантического порядка. И, очерчивая их историю, выделяя основные линии эволюции интерпретации, он стремится подчеркнуть, каким образом в разные времена ставилась проблема знака и значения»11. Вместе с тем, проблема методологической составляющей шпетовских исследований, намеченная в исследованиях Вендитти и Гидини, нуждается в дальнейшем переосмыслении, поскольку сегодня
Вендити М. Об изучении творчества Г.Г. Шиета в странах Западной Европы и Америки // Начала. 1992. № 1. С. 93.
" Гидини М.К. Слово и реальность. К вопросу о реконструкции философии языка Густава Шпета // Шпет Г.Г. / Comprehensio. Вторые Шпстовскис чтения «Творческое наследие Г.Г.Шпета и современные философские проблемы». Томск, 1997. С. 63.
обнаруживается пласт архивных работ, существенно эксплицирующих эту тему шпетовского творчества.
Особо хочется отметить вклад Э. Фрейбергер (США) в разработку герменевтической концепции Шпета. Благодаря ее усилиям, «Явление и смысл», а также ряд других работ русского мыслителя были переведены на английский и немецкий языки. Неоценимую помощь оказала она в проведении Первых и Вторых Шпетовских чтений, организованных томскими исследователями. Ею присланы в Шпетфонд г. Томска работы некоторых зарубежных философов, изучающих творчество Шпета12.
Проблемы герменевтики, разрабатываемые Шпетом, неразрывно связаны с развитием в начале XX столетия нового направления в философии - феноменологии, на основе которой он развивал методологические проблемы гуманитарного знания. Важное значение в развитии этого направления в шпетоведении имеют работы В.Г. Кузнецова, В.В. Калиниченко, В.И. Молчанова, И.М. Чубарова, Е.В. Борисова, Ф. Роди и др.
В.В. Калиниченко видит в Шпете философа нового поколения, который начинает новую традицию: феноменологию социальности (социальность трактуется очень широко, Шпета интересуют лингвистическое, эстетическое, историческое, этнопсихологическое и другие измерения), и как философа, отошедшего (уже в «Явлении и смысле») от трансцендентально-феноменологической установки13. Аналогичная точка зрения о «герменевтическом характере» методологической концепции Шпета и его «повороте от феноменологии»
12 Freiberger Е. Gustav Shpet in context of Contemporary Westen thought II Шпет Г.Г. I Comprehensio. Вторые Шпстовскис чтения «Творческое наследие Г.Г.Шпета и современные философские проблемы». Томск, 1997. С. 10-13.
Калиниченко В.В. Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос. 1992. № 3.
присутствует и в работах В.И. Молчанова14. Он считает, что Шпет изменяет позицию относительно «Я» как онтологического центра... и возвращается к мысли Вл. Соловьева о том, что мы не являемся собственниками сознания. Вопрос «Чье сознание?» может быть задан только в социальном контексте, как указание на определенную объективацию. Различение Я и единства сознания, попытка представить Я как уникальное, как «имярек» и одновременно входящее в единство коллективного, или соборного сознания осуществляется Шпетом в рамках герменевтического поворота, решающие пункты которого заметны уже в книге «Явление и смысл»»15. При анализе концепций зарубежных феноменологов, изучающих творчество Шпета, особый интерес вызывают исследования Ф. Роди, который не только рассматривает проект герменевтической логики Шпета, но и осуществляет сравнительный анализ проектов герменевтической логики Г. Шпета, Г. Липпса и Г. Миша16.
В последние годы к творчеству Шпета проявляют научный интерес отечественные психологи. Их исследования тесно связаны с проблемами формирования и развития исторического сознания, поднятыми на страницах произведений Г.Г. Шпета. В.П. Зинченко, например, анализирует психологические взгляды Г.Г. Шпета на фоне широко известных научных направлений: культурно-исторической психологии, событийной психологии, психологической теории деятельности, физиологии активности, связанных с именами М.М. Бахтина, Н.А. Бернштейна, Л.С. Выготского и др. «Научное наследие Г.Г. Шпета, -полагает В.П. Зинченко, - имеет не только исторический интерес, но и
14 См. например: Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988.
5 Молчанов В. Феноменология в России // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 551.
16 Роди Ф. Программа «герменевтической логики». Сравнительный анализ подходов Густава Шпета и Георга Миша // Шпет Г.Г. / Comprehcnsio. Вторые Шпетовские чтения
способствует расширению сознания представителей гуманитарного знания, в частности сознания психологов»17. Весомый вклад в исследование этнопсихологических новаций Шпета внесли М.Г. Ярошевский, Т.Д. Марцинковская и др. Благодаря их кропотливой работе был осуществлен проект издания «Выдающиеся психологи Москвы»18 и ранее неопубликованных материалов из архива Шпета19. Исследуя творчество Шпета, Т.Д. Марцинковская интерпретирует его методологическую позицию как междисциплинарный синтез гуманитарного знания. В основе этого синтеза, как полагает Т.Д. Марцинковская, лежит «социальное бытие» человека, которое «превращает его самого в социальную личность, поведение которой является определенным знаком для других людей, одновременно являясь знаком и для него самого...»20. С её точки зрения, значение этнопсихологических исследований Шпета состоит прежде всего в том, что он характеризует сознание индивида с культурно-исторических позиций, выявляя при этом важнейший элемент такой характеристики -слово, открывающееся нам не только при восприятии предмета, но и при усвоении его в виде знака, интерпретация которого осуществляется индивидом в процессе социального общения. Вот почему Т.Д. Марцинковская полагает, что Шпет положил в основание своей общефилософской концепции исследование смысла и значения слова. Представляет реальный научный интерес и концепция Т.Г. Стефаненко, которая полагает, что исследования Шпета по этнопсихологии во многом
«Творческое наследие Г.Г. Шпета и современные философские проблемы». Томск, 1997. С. 48.
17 Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М., 2000.
С. 2.
18 Выдающиеся психологи Москвы. М., 1997.
19 Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи. М., 2000.
20 Марцинковская Т.Д. Густав Густавович Шпет - жизнь как проблема творчества //
Психология социального бытия. М. - Воронеж, 1996. С. 19.
перекликаются «со все увеличивающимся в наши дни стремлением этнопсихологов выявить, как те или иные элементы культуры отражаются в сознании людей...»21.
В процессе анализа рецепции шпетовского творчества становится очевидно, что и отечественные, и зарубежные исследователи (В.Г. Кузнецов, В.В. Калиниченко, Т.Д. Марцинковская, Ф. Роди, А. Хаардт, М. Денн и др.) предпринимают попытки сопоставления его опыта мышления с философскими взглядами как западноевропейских (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Г. Липпс, Г. Миш и др.), так и русских (М.М. Бахтин, П.А. Флоренский, Вл. Соловьев и др.) мыслителей. Но, как показал опыт такого рода попыток, действительное сопоставление их взглядов возможно лишь при погружении шпетовских идей в проблемы тех наук, на фоне которых развертывалась его мысль. Именно в этом направлении идут современные исследователи творчества Шпета, пытаясь найти для его философских идей и концептуальных поисков наиболее адекватный контекст.
Одна из последних тематизаций шпетовского идейного наследия непосредственно связана с попытками переосмысления проблемы субъект-объектной дихотомии в гуманитарных науках. Такие попытки предпринимают В.П. Зинченко и В.А. Лекторский22. В.П. Зинченко задает психологический контекст проблемной интерпретации шпетовских новаций. Он пытается актуализировать методологические подходы Шпета к решению современных психологических проблем, т.е. задает психологический метауровень исследования шпетовских текстов. В.А. Лекторский рассматривает проблемы, сформулированные Шпетом, в контексте современной философской мысли, как российской, так и
21 Стефаненко Т.Г. Г.Г. Шпст и этнопсихология конца XX века // Густав Густавович
ІІІПСТ. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи. М., 2000. С. 322.
22 Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М., 2000.,
Лекторский В.А. Немецкая философия и российская гуманитарная мысль: С.Л.
Рубинштейн и ГГ. Шпет// Вопросы философии. 2001. № 10.
западноевропейской. Он демонстрирует перспективные возможности шпетовских философских идей (его способы постановки проблемы интерсубъективности и интерпретации «Я» в контексте культурных объективации) для современных гуманитарных исследований.
В.П. Зинченко интерпретирует «слово» (основное понятие философии Шпета) как «слово-действие», указывая на плодотворность этого понятия при исследовании психических актов сознания. В.Л. Лекторский пытается эксплицировать понятия деяния и действия, совершенно точно указывая на механистическую природу действия и его отличия от деяния, имеющего этические и культурные параметры. Мне кажется, что экспликация «деяния» и «действия» весьма существенна для гуманитарных исследований.
И В.П. Зинченко, и В.Л. Лекторский актуализируют шпетовский способ проблематизации субъект-объектной дихотомии, но методологически идут разными путями, т.е. предпринимают попытки включения Шпета в разные традиции. Зинченко видит путь к современному прочтению Шпета в «общении идей» русских психологов того времени: Н.И. Жинкина, Н.Н. Волкова, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Л.Н. Леонтьева, Н.А. Бернштейна и др. С точки зрения историко-философского подхода к данной проблематике такое исследование представляется «методологической фикцией», поскольку совершенно очевидно, что Шпет в кругу русских психологов начала XX века является «фигурой умолчания». Но автор осознает всю сложность выбранного им подхода к исследованию шпетовских психологических новаций и фиксирует свою позицию как особый концептуальный прием, используя метод «параллельных высказываний», осуществляя с его помощью своеобразную «перекличку» «голосов Разума». В результате такого подхода «методологическая фикция» превращается в авторскую «герменевтическую новацию», которая позволяет ему воссоздать
«семантический ландшафт», «общее напряженное поле мысли» того времени. Метод «параллельных высказываний», по мнению автора, позволяет не только актуализировать идеи Шпета, но и идентифицировать свои собственные взгляды . Я думаю, что такой подход представляет попытку экстенсивной интерпретации. Поскольку автор выбирает способ внешнего расширения контекста за счет введения шпетовских новаций в широкий культурный «семантический ландшафт», «общее напряженное поле мысли» того времени.
В.А. Лекторский осуществляет интенсивную интерпретацию, задает внутренний проблемный контекст исследования продуктивных методологических возможностей, тематизируемых Шпетом Его цель заключается, на мой взгляд, в том, чтобы аналитическими средствами эксплицировать основные понятия шпетовской концепции, прослеживая смысловую трансформацию этих понятий. При такой постановке проблемы меняется и контекстуальное поле исследования. В.А. Лекторский включает шпетовские идеи в контекст развития западноевропейской философской мысли (Кант, Фихте, Гегель, Гуссерль).
Экстенсивная интерпретация шпетовских идей, предпринятая В.П. Зинченко, и аналитические повороты интерпретации В.А. Лекторского являются, на мой взгляд, взаимодополняющими, поскольку и тот, и другой исследователь, несмотря на различные формы изложения, констатируют необходимость включения русской философской мысли в контекст развития западноевропейской философии и науки и осуществляют в своих построениях проблемный подход к исследованию русской философии и в частности к философии Г. Шпета. Такой подход, как констатирует П.П. Гайденко24, является наиболее плодотворным для современного
23 Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М., 2000.
С. 28.
24 Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М, 2001. С. 10 -
11.
исследовании русской философской мысли, поскольку он дает «ключ к решению сегодняшних вопросов, возникающих в сфере онтологии, теории познания, логики, философии науки, социологии, психологии»25. И экстенсивная интерпретация Зинченко, и интенсивная интерпретация Лекторского являются своеобразной констатацией продуктивности шпетовских идей для современного гуманитарного знания. Несмотря на различие интерпретативных путей В.П. Зинченко и В.А. Лекторского, исследования, предпринятые ими, демонстрируют, что шпетовская проблематизация субъекта и тематизация методологических аспектов гуманитарного исследования, а также его попытка экспликации гумбольдтовской «внутренней формы языка» имеют интеллектуальное созвучие с методологическими поисками современной гуманитаристики, а его идеи активно участвуют в современных дискуссиях в гуманитарных науках.
Эпистемологический контекст исследования герменевтических новаций Шпета задает Л.А. Микешина. Она обосновывает концепцию синтеза когнитивных практик, где методологический опыт Шпета представлен как «уникальная реконструкция исторического развития герменевтики»26. В отличие от интерпретаций Зинченко и Лекторского, тематизирующих шпетовский способ проблематизации субъекта, Микешина осуществляет своеобразный поворот к актуализации его методов решения проблемы субъект-объектной дихотомии, как проблемы герменевтической. Размышления Микешиной являются, на мой взгляд, созвучными и еще одной дискуссии в сфере шпетоведения, развернувшейся между В.Г. Кузнецовым и В.В. Калиниченко. Я думаю, что проблема соотношения феноменологических и герменевтических компонент в текстах Шпета, которая стала предметом спора между
5 Гайдсико П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М, 2001. С. 12.
6 Микешина Л.Л. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. С. 73.
российскими исследователями, не потеряла своей актуальности и сегодня, поскольку осмысление методологических приемов и способов аргументации выводит эту проблему за рамки шпетоведения и позволяет поставить вопрос о контекстуальном плюрализме как наиболее плодотворном подходе к современным философским проблемам.
В.В. Калиниченко рассматривает творческое развитие Шпета как герменевтический поворот (поворот от феноменологии к герменевтике), а В.Г. Кузнецов определяет эту тенденцию как синтез феноменологии и герменевтики. Очевидно, что предметом спора становится динамика шпетовского творчества. Но при ближайшем рассмотрении содержания предложенных интерпретаций и на основании исследования текстов Шпета обнаруживается предметная неопределенность возникшей дискуссии. Две предложенные интерпретации шпетовского творческого развития не подлежат сравнению, так как в их основании лежат две совершенно разные предметные философские установки.
Калиниченко исходит из тезиса включенности творчества Шпета в западноевропейскую философскую традицию и проводит параллель между его творческой эволюцией (герменевтическим поворотом) и развитием философии в Западной Европе в XX столетии. Он считает, что такой герменевтический поворот был характерен не только для Шпета, «он был и остается симптоматичным для философии XX столетия» . Творческий путь М.Хайдеггера, М.Мерло-Понти, Г.Гадамера, П.Рикера и многих других философов яркое тому подтверждение. И с этой точкой зрения нельзя не согласиться. Таким образом, говоря о герменевтическом повороте в творческом пути Г.Г. Шпета, В.В. Калиниченко усматривает в нем смену его творческой программы, предлагая историко-философский и феноменологический контекст прочтения его идей.
Калиниченко В.В. Густав Шпст: от феноменологии к герменевтике //Логос. 1991. №3. С. 38.
В.Г. Кузнецов рассматривает эволюцию творческого метода Шпета. В книге «Герменевтика и гуманитарное познание» он не «обозначает программу Шпета как феноменологическую герменевтику»28, но анализирует шпетовский метод философского исследования и определяет его как феноменологическую герменевтику. «Герменевтика в традиционном ее понимании, - полагает Кузнецов, - является методической дисциплиной, которая предоставляет возможности для постижения смысла. Но она необходима там, где существует непонимание, когда обычные средства умопостигающей деятельности человека ...оказываются недостаточными для полного проникновения в сокрытый смысл. Феноменология как раз и оказалась в таком положении, когда ее внутренних средств было недостаточно для постижения смысла. Всегда оказывался пробел в методологических средствах и вследствие этого всегда существовал непостигаемый «остаток». Для заполнения такого «пробела» Шпет и предназначал инструментарий феноменологической герменевтики»29. Таким образом, для Кузнецова важно, «что наполняемая новым теоретическим содержанием герменевтика методологически и концептуально не противоречит феноменологии, поэтому употребление термина «феноменологическая герменевтика вполне оправдано»30. Итак, ни в своей книге, ни в указанной статье Кузнецов не говорит о программе феноменологической герменевтики у Шпета, но задает логико-методологический контекст осмысления шпетовских герменевтических новаций, рассматривая «феноменологическую герменевтику» Шпета как метод или своеобразный «инструментарий» для исследования проблем современного гуманитарного знания.
Калиниченко В.В. Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос. 1991. №3. С. 49.
9 Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. С. 184. 30Кузиецов В.Г. Герменевтическая феноменология в контексте философских воззрений Густава Густавовича Шпета//Логос. 1991. №2. С.200.
При всем своем различии и та, и другая точка зрения имеют право на существование. Я думаю, что эта дискуссия демонстрирует плодотворность и той, и другой интерпретации, но одновременно заставляет задуматься о необходимости предметной определенности для современных дискуссий. И обозначенный В.В. Калиниченко «герменевтический поворот» как динамика шпетовской философской программы, и предложенная В.Г. Кузнецовым интерпретация метода Шпета как «феноменологической герменевтики» могут работать одновременно, но в разных исследовательских контекстах.
Не менее интересным мне представляется обсуждение проблемы соотношения шпетовских идей с идеями «позднего» Гуссерля. Эта проблема явилась предметом спора между Е.В. Борисовым, выдвинувшим
«
идею интеллектуального параллелизма шпетовских идей и феноменологических исследований «позднего» Гуссерля31, и И.М. Чубаровым, полагающим, что «было бы неверным считать позицию Шпета предвосхищением поворота позднего Гуссерля к проблематике интерсубъективности, «жизненного мира» и т.д.» . На мой взгляд, вопрос о «предвосхищении», «влиянии» и т.п. не позволяет выйти этой проблеме на предметный уровень интерпретации, так как носит историко-философский характер. С другой стороны, при методологическом повороте проблема выходит за рамки специфического историко-философского спора, следовательно, расширяется исследовательский горизонт. Такой методологический поворот предполагает вопрос: может быть "интерсубъективность" и "жизненный мир" являются своеобразным ядром контекстуального напряжения и русской и западной философии XX
Борисов Е.В. «Явление и смысл» Г. Шпета в контексте развития феноменологии Э. Гуссерля // Шпет Г.Г. Явление и смысл. Томск, 1996. С. 191.
32 Чубаров И.М. К вопросу об отношении герменевтический диалектики Г.Г. Шпета к классической герменевтике и проблематике интерсубъективности у Эд. Гуссерля // Г.Г. Шпет / Comprechensio. Третьи Шпетовские чтения. Томск, 1999. С. 18.
века? Я думаю, что этот вопрос меняет направление дискуссии. Проблема,
Ш по-разному решаемая Е.В. Борисовым и И.М. Чубаровым, предстает в
ином смысловом поле и предполагает контекстуальный плюрализм, а попытка И.М. Чубарова соотнести шпетовские идеи с современными постмодерными новациями Ж. Делеза и Ф. Гватари, искусственная на первый взгляд, приобретает легитимность.
Таким образом методологический плюрализм, предполагающий
lw погружение шпетовских идей в разные контексты современных
философских, психологических и других гуманитарных проблем, приводит к плодотворным обсуждениям и создает своеобразное проблемное поле для переосмысления шпетовских идей. Возникает вопрос: в чем причина множественности интерпретативных поисков современных исследователей шпетовского творчества, почему проблемное поле дискуссий оказывается
ф таким широким? Думаю, что это объясняется, прежде всего, широтой
научных и философских интересов самого Шпета. Кроме того, такая множественность интерпретаций возникает и из-за внутренних противоречий, свойственных шпетовскому способу изложения.
Однако существует еще один исследовательский ракурс шпетовских текстов, предполагающий переосмысление методологического статуса архивного контекста, эксплицирующего смысл шпетовского философско-
^ методологического проекта. Думаю, что адекватная историко-философская
интерпретация идейного наследия Шпета должна осуществляться с учетом его архивных материалов и воссозданием действительного контекста его философского круга общения.
Основной целью диссертации является архивная реконструкция философско-методологического проекта Шпета и демонстрация его методологических возможностей в исследовании коммуникативной реальности русского философского сообщества.
Для реализации этой цели в диссертации ставятся и решаются следующие задачи:
уточнить методологический статус архива в историко-философских реконструкциях;
раскрыть конструктивную роль эпистолярного наследия в исследовании динамики русского философского сообщества;
проанализировать историко-философские интерпретации философии Шпета, демонстрируя эксплицирующую функцию архива;
выявить исторические предпосылки философско-методологического проекта Шпета;
осуществить сравнительный анализ диалектических и феноменологических составляющих в философско-методологическом проекте Шпета, демонстрируя неявную обусловленность его идейной эволюции русским философским контекстом;
охарактеризовать основные проблемные элементы философско-методологического проекта Шпета, эксплицируя его терминологическую основу;
продемонстрировать методологические возможности философского проекта Шпета в исследовании динамики русского философского сообщества, осуществляя проблемный анализ интеллектуальных и экзистенциальных отношений Шпета с русскими философами (Шестовым, Соловьевым, Гершензоном, Якобсоном).
Методологическая основа исследования
Для методологии проводимого историко-философского исследования существенным становится погружение объекта исследования (философско-методологического проекта Шпета) в два контекста — современный и конкретно-исторический, поскольку именно при таком
двойном методологическом повороте становятся возможными как рациональная реконструкция шпетовского целостного философского проекта, так и современное переосмысление, пересмотр основных его структурных компонентов, а также демонстрация плодотворных возможностей шпетовских методологических подходов к историко-философскому исследованию динамики русского философского сообщества. Не менее важным методологическим компонентом данной работы является герменевтический подход, дающий возможность адекватной интерпретации шпетовского архива.
Теоретической основой исследования послужили теоретические работы отечественных исследователей по философско-методологическим проблемам: Н.С. Автономовой, П.П. Гайденко, И.Т. Касавина, В.Г. Кузнецова, В.А. Лекторского, Л.А. Микешиной, В.Н. Поруса, Б.И. Пружинина, В.П. Филатова; по проблемам историко-философского анализа: П.П. Гайденко, М.Н. Громова, А.Ф. Зотова, М.А. Маслина, В.Л. Махлина, Н.В. Мотрошиловой Т.И. Ойзермана, В.В. Сербиненко и др., а также фундаментальные теоретико-методологические концепции таких зарубежных исследователей, как Г.-Г. Гадамер, П. Рикер, М. Фуко, Ю. Хабермас и др.
Источники исследования
Источниковой базой диссертационного исследования являются опубликованные сочинения Шпета, но наиболее важным источником становятся материалы семейного архива Шпета, московских архивов (РГБ, ЦИАМ, ЦМАМ, ЦГАЛИ) и Центрального архива г. Киева (ДАМК): рукописи неопубликованных работ, рецензии, заметки на полях прочитанных книг, эпистолярное наследие (письма к жене, друзьям, единомышленникам, детям). Введены в научный оборот ранее неисследованные рукописи семейного архива Шпета, позволившие
эксплицировать структурные элементы его философско-методологического проекта. Важнейшим источником исследования стали философские сочинения западноевропейских и русских мыслителей начала XX века (Э. Гуссерля, В. Дильтея, В. Соловьева, Л. Шестова, М. Гершензона и др.).
Научная новизна исследования
В диссертации осуществлена архивная реконструкция философско-методологического проекта Шпета и продемонстрирован продуктивный характер его методологических возможностей в исследовании коммуникативной реальности русского философского сообщества.
При этом получены следующие основные результаты:
Переосмыслен методологический статус архива в историко-философских исследованиях, позволивший уточнить структурные и функциональные элементы философско-методологического проекта Шпета и эксплицировать дополнительные возможности исследования проблемной динамики философского сообщества.
Выявлены продуктивные возможности эпистолярного наследия не только в осуществлении реконструкций биографий отдельных мыслителей, но и в исследовании динамики философского сообщества.
Раскрыты исторические предпосылки философско-методологического проекта Шпета.
Сформулированы основные проблемные элементы философско-методологического проекта Шпета, эксплицирована его терминологическая основа.
Осуществлен сравнительный анализ диалектических и феноменологических составляющих в философско-методологическом проекте Шпета, продемонстрирована неявная
обусловленность его идейной эволюции русским философским сообществом.
Продемонстрированы методологические возможности философского проекта Шпета в исследовании динамики русского философского сообщества, осуществлен проблемный анализ интеллектуальных и экзистенциальных отношений Шпета с русскими философами (Шестовым, Соловьевым, Гершензоном, Якобсоном).
Уточнены некоторые факты биографии Шпета, имеющие концептуальное значение для понимания его идейной эволюции: установлена точная дата знакомства с Гуссерлем, уточнены даты написания ряда текстов, сохранившихся в архиве и др.
Введены в научный оборот неисследованные ранее философские тексты Шпета из семейного архива и ОР РГБ.
Теоретическая и практическая значимость диссертации
Предложена реконструкция философско-методологического проекта Шпета, в процессе осмысления которого разработаны и обоснованы теоретические положения, позволяющие во многом по-новому оценить роль и место архива в историко-философской реконструкции.
Положения и выводы, полученные в диссертации, могут использоваться при чтении основных и специальных курсов по истории русской философии, методологии историко-философских исследований, методологии гуманитарного знания.
Основные положения, выносимые на защиту:
Исследование архива Шпета позволяет утверждать, что его
методологическая концепция - целостный философский проект,
включающий когнитивные и экзистенциальные структурные
элементы.
Анализ архива показывает, что в центре внимания Шпета находятся два опыта мышления - Гегеля и Гуссерля, так как именно их философские построения представляют собой осознанную в полной мере и теоретически обоснованную попытку отстоять самостоятельность философского мышления в ряду остальных форм духовной деятельности.
Методологический проект Шпета формировался в процессе осмысления проблем конкретных гуманитарных дисциплин: истории, лингвистики, психологии. Поэтому основная цель шпетовского методологического проекта заключается в обосновании необходимости введения феноменологических процедур в структуру методологии гуманитарных наук, как непременного условия рационального научного объяснения культурно-исторических фактов реальной жизни в их полноте и конкретности. Сопоставление архива и опубликованных произведений показывает, что Шпет пытается преодолеть эпистемологический разрыв между объяснительным и описательным подходами в гуманитарном исследовании, демонстрируя, с одной стороны, социокультурную обусловленность (контекст) научных идей, а с другой, нацеленность этих идей на объективность - собственно познавательный, когнитивный слой знания.
Архивное исследование существенно эксплицирует направленность исследовательского интереса Шпета, реально демонстрируя его поворот к научно-философской тематизации проблемы общения, в сфере которой главная роль принадлежит принципиальному анализу «слов-знаков» в их значениях, т.е. самой системы структурных элементов «знака — значения» как отношения.
Философско-методологический проект Шпета оказывается продуктивным для исследования современных историко-
философских проблем, где в анализе идей и проблем требуется обращение к экзистенциально-антропологическому контексту их формирования. Методологический поворот к архиву открывает новые способы историко-философского исследования. Это, во-первых, реконструкция возможных идейных интерпретаций философских текстов. Во-вторых, архив дает реальную возможность обоснования для сравнительного анализа философских концепций. В-третьих, архив содержит тексты повествовательного характера, фиксирующие акты повседневного общения, которое наряду с интеллектуальными беседами становится смыслообразующим структурным элементом коммуникативной реальности философского сообщества. Такой методологический подход к архиву (особенно к эпистолярному наследию) дает возможность не только анализировать идейное содержание текстов одного мыслителя, но и исследовать динамику философского сообщества в целом.
Апробация работы
Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры философии Московского педагогического государственного университета. Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 31 научной работе автора (в том числе одной монографии) общим объемом 42,7 п.л.
Идеи, разработанные в диссертации, были использованы при работе над тремя научными проектами, поддержанными Институтом "Открытое общество" - фондом содействия и Российским гуманитарным научным фондом: «Исследование научного архива Густава Шпета» (2001), «Густав Шпет: жизнь в письмах» (совместно с М.Г. Шторх, урожд. Шпет, 2002-2003), «Проблема гуманитарной предметности: методология
гуманитарного знания в контексте традиций русского неокантианства и
ф феноменологии (Б.Л. Фохт - Г.Г. Шпет)» (совместно с Р.Л.
Счастливцевым и Н.А. Дмитриевой, 2003-2005).
Основные результаты, полученные в диссертации, докладывались и
обсуждались на многочисленных конференциях, в том числе: на
Международной научной конференции «Проблемы славянской культуры и
цивилизации» (Уссурийск, 2001), Научной конференции «Культура
\Ш Дальнего Востока России и стран АТР: Восток - Запад» (Владивосток,
2001), VII Российском симпозиуме историков русской философии
«Русская философия: многообразие в единстве» (Москва, 14-17 ноября
2001), Международной научной конференции «Человек - Культура —
Общество. Актуальные проблемы философских, политологических и
религиоведческих исследований» (Москва, 13-15 февраля 2002), IV, V, VI
ш± Всероссийских научных заочных конференциях посвященных актуальным
проблемам русской философии (Екатеринбург, 2001 - 2002), Международной научной конференции «Россия и Европа и наследие B.C. Соловьева» (Иваново, 11-12 апреля 2003), Международной научной конференции «IV Шпетовские чтения» (Томск, 14-17 ноября 2002), Международной конференции «История философии как философия» (СПб, 24-25 октября 2003).
Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Роль эпистолярного наследия в реконструкции коммуникативной реальности философского сообщества
Архивное исследование коммуникативного пространства русского философского сообщества, на первый взгляд, имеет реальные аналогии с исследованием научного сообщества. Действительно, такого рода исследования научного дискурса не раз предпринимались в отечественной и зарубежной литературе1. Однако в ходе обращения к философскому архиву русских философов возникает ряд вопросов: «В чем специфика методологии исследования коммуникативного пространства философского сообщества? Можно ли перенести методы, разработанные для исследования научного дискурса и применить их к философскому сообществу (русскому, в данном случае)?». Думаю, что непосредственный перенос методологических операций из одной эпистемологической области в другую невозможен без дополнительной конкретизации понятийных образований той области знания, в которую осуществляется перенос. Поэтому необходимо, на мой взгляд, различить понятия «научное сообщество» и «философское сообщество», поскольку в процессе такого различения будут видны специфические отличия не только внешних социологических параметров, но и внутренних, содержательных характеристик представленных типов сообществ. Не останавливаясь на сходных характеристиках, сосредоточу свое внимание на отличительных специфических чертах философского дискурса как важнейшего элемента анализа любого языкового сообщества. Важнейшей такой чертой является принципиальная несводимость философского дискурса только к логическому, дискурсивному. Философский дискурс, в отличие от научного, содержит в себе утопическое начало, поскольку принимает реальность не только как данность, но и как определенную возможность. Философ постоянно ставит под сомнение существующие нормы, рефлексируя о сфере должного, нормативного. Ученый, работающий в рамках своего языкового сообщества, не выходит за сферы должного, он не творит должного, как это делает философ. Второй специфической чертой философского дискурса является его принципиальная нацеленность на истолкование и когнитивного и экзистенциального смыслового слоя. Философ всегда работает на границе между реальностью и вымыслом, он, собственно говоря, нацелен на интерпретативную работу, он ищет в реальности то, чего еще не видят другие. Эту направленность философского сообщества на общение прекрасно выразил А. Белый. «Назначение человечества, - писал он, - в живом творчестве жизни; жизнь человечества предполагает общение индивидуумов; но общение — в слове и только в слове. Всякое общение есть живой творческий процесс, где души обмениваются сокровенными образами, живописующими и созидающими тайны жизни. Цель общения - путем соприкосновения двух внутренних миров зажечь третий мир, нераздельный для общающихся и неожиданно углубляющий индивидуальные образы души. Для этого нужно, чтобы слово общения не было отвлеченным понятием; отвлеченное понятие определенно кристаллизует акты уже бывших познаний; но цель человечества - творить самые объекты познаний; цель общения - зажигать знаки общения (слова) огнями все новых и новых процессов творчества. Цель живого общения есть стремление к будущему; и потому-то отвлеченные слова, когда они становятся знаками общения, возвращают общение людей к тому, что уже было; наоборот, живая, образная речь, которую мы слышим, зажигает наше воображение огнем новых творчеств, т.е. новых словообразований; новое словообразование есть всегда начало новых познаний» . Поэтому сам строй философского исследования - это постоянное вопрошание реальности, а не решение головоломок, которым занимается «нормальный» ученый (Т. Кун). Именно по этой причине в процессе анализа общения русских философов особую значимость приобретает эпистолярное наследие, поскольку именно в письмах зачастую содержится семантический слой, позволяющий эксплицировать сущностные и функциональные характеристики философского сообщества, выявить его отличительные особенности.
В процессе анализа эпистолярных материалов, опубликованных в российских изданиях за последние 10 лет, прослеживается ряд тенденций, осмысление которых позволяет отчасти пересмотреть исследовательскую стратегию историко-философского анализа коммуникативной реальности русского философского сообщества. Прежде всего, становится очевидным, что к материалам эпистолярного характера, как правило, проявляют исследовательский интерес историки русской философии, исключение составляет переписка М. Хайдеггера и К. Ясперса3. Публикации эпистолярного наследия философов в таких журналах как «Вопросы философии», «Начала», «Логос»4, а также материалы ряда российских историко-философских конференций5 наглядно демонстрируют сложившуюся в российской истории философии ситуацию. Почему сложилась такая исследовательская ситуация? Чисто прагматически, это связано с непосредственной близостью архивов русских философов. Однако, глубинный смысл такого положения дел в исследовании и публикации эпистолярного наследия связан с той экзистенциальной направленностью русской философской мысли, о которой уже говорилось в первом параграфе.
Кроме того, другой, не менее важной тенденцией в исследовании эпистолярного наследия является отсутствие в историко-философском плане методологической рефлексии над этими материалами. Как отмечает М.Н. Громов: «Собственно философское источниковедение еще не выработано, что делает актуальным его разработку, особенно для историко-философских исследований»6.
Развитие философско-методологического проекта Шпета: между диалектикой и феноменологией
Размышления о сущности философии, определение границ философского знания являются для Шпета своего рода основаниями1, которые задают последовательность и самостоятельность философских размышлений. Прояснение этих оснований, т.е. анализ шпетовских ответов на вопрос: «Что такое философия?», приобретает особую значимость, поскольку в процессе исследования шпетовского способа философствования возникает ряд трудностей, связанный, прежде всего, с многозначностью терминов, в пространстве которых развертывается его мысль. Однако в письмах Шпет уточняет терминологию
Объектом методологической рефлексии Шпета становится не наука, и не культура, и не язык. Объектом становится сама философия во всех ее исторических проявлениях. Поэтому если попытаться определить сферу его мысли в современных эпистемологических терминах, то, я думаю, наиболее адекватным будет «методология исторической философии». Действительно, предметом рефлексии Шпета становится мысль в ее уже ставшем виде, т.е. мысль как реальность, как исторически существующий «здесь и теперь» рефлексивный опыт, источником которого становятся сочинения философов. Следуя принципам герменевтического исследования, он определяет «философию» и как некоторую «часть» целого, и как само целое. Философия как целое, — говорил он, - есть «не только некоторая система проблем и методов, но также известное жизненное настроение или миропонимание и отношение к миру» . Философия как единое, внутренне связанное целое есть жизнь во всех ее проявлениях. Вот строки из одного письма к Н.К. Гучковой, в котором
Шпет пытается сформулировать свое понимание философии: «...философия не есть нечто стоящее сбоку или по пути, не есть и средство развлечения, а есть определенная форма самой жизни с вечным углублением и совершенствованием, ...для целого общественной жизни такая форма не менее, а более еще необходима, чем те формы, которые на W первый взгляд стоят ближе к повседневной заботе человека. Бросить философию, значит бросить жизнь»3. Жизнь в философии, для Шпета, это «постоянное обращение к «философскому», внимание, на него направленное, постоянная «установка» сознания на него, — вот что создает само философское сознание, философа»4.
Иначе говоря, философия, как ее понимает Шпет, есть целостная система знания, принимающая наукообразную форму, и вместе с тем, охватывающая всю совокупность переживаний, т.е. «дающая миросозерцание» . В такой постановке вопроса нет противоречия, поскольку сам смысл «жизни в философии» Шпет видит в иной установке сознания, в ином видении мира, нежели только в построении теоретических систем или только в исключительно морально практической установке. Философия в своем выражении и через него узнает самое себя, поскольку она рефлектирует на самое себя, определяя основания мировоззренческих поисков. Шпет полагал, что диалектически и исторически философия в своем развитии проходит три ступени: 1) Мудрости; 2) Метафизики; 3) Строгой науки. Но, каждый этап не исчезает при появлении исторически последующего, «мудрость», «метафизика» и «строгая наука» есть составляющие философии как целого. Философия как чистое знание не противопоставляет себя другим наукам, потому что она сама - наука; «точно также как часть, — а не как противоречие, она занимает свое определенное место в целом философии, под которой в широком смысле понимается и строгое знание, и «метафизика», и «жизнь»»6. Характеризуя ступень мудрости, он писал, что такое понимание философии непременно утилитарно - философия-мудрость учит как должно жить, как в самом широком, так и в самом узком смысле. «Понимание философии как метафизики и мировоззрения вызывает более тонкое и возвышенное представление о ее пользе - для спасения души, разрешения загадок смысла жизни, оправдания мира, - но в основном также порождает утилитаристическое отношение к себе»7. Нужно углубиться до идеи философии как чистого знания, чтобы восприятие ее и науки как таковой выразилось в чистом «незаинтересованном» эросе.
Под строгой наукой Шпет понимал положительную философию, проводя при этом грань между философией как чистым знанием (положительной философией8) и научной, «позитивной» (отрицательной) философией. Научная философия, по его мнению, обычно оказывается несостоятельной, так как «либо она бесцельно удваивает научные решения вопросов, либо она выходит за границы отдельных наук и берется решать научными средствами вопросы, которые научному решению не подлежат» . В отличие от научной, философия как чистое знание имеет положительные задачи и строится на твердых основаниях. Эти основания должны быть критически установлены самой философией.
В основу противопоставления положительной и отрицательной философии Шпет положил антитезу «Платон-Кант», видя в ней величайшее «да» и «нет» из когда-либо высказанных философией, поскольку «она касается самих начал во всем их всеобъемлющем смысле»10. Действительно, для Шпета важно терминологически различить основания философских построений Платона и Канта, поскольку при таком различении становятся очевидными не только принципы послекантовской философии (философских учений XIX века), но и возможные пути дальнейшего развития философии. Критерием этого различения является вопрос о бытии познающего разума. Схема, предложенная Шпетом такова":
Основные принципы Платона: а) Истина предметна и усматривается нашим разумом в идее; Ь) Высший принцип всякого утверждения истины есть «то же» в ней, то есть принцип тожества; с) Полнота истинного бытия, познаваемая как конкретная целостность общего; d) Идея выражает его сущность и всякое бытие утверждается через причастность ей или участие в ней; е) Идея конечной сущности, блага, разумна, так что за разумом сохраняется его автономия.
Общение Г. Шпета с Л. Шестовым
Знакомство Густава Шпета с Львом Шестовым состоялось, по всей вероятности, тогда, когда Шпет еще жил в Киеве1. Их дружба сохранилась и после переезда Шпета в Москву. Андрей Белый так передал свое видение отношений Шпета к Шестову: «Шпет... приверженец Юма и скептик, боготворил философские опыты Шестова... нас сближала с ним не философия вовсе, а новизна его, афористичность его, тонкий юмор и чуткое отношение к культуре искусства...»2.
В семейном архиве сохранились письма Шестова к Шпету, благодаря которым можно воссоздать ситуацию их общения. Письма Шпета к Шестову, насколько мне известно, не сохранились, но благодаря его письмам к Наталье Константиновне Гучковой (1912, 1914.), в которых обнаруживается шпетовская особенность письма - предельно подробное описание того или иного события-разговора - разговор между Шпетом и Шестовым становится реальностью.
В беседах Шпет и Шестов обсуждали свои планы будущих работ, читали друг другу уже написанное, словом, их общение - это возможность поделиться друг с другом еще и несозревшими мыслями, сомнениями, раздумьями. Такой разговор был особенно необходим Шпету в Геттингене во время работы над «Историей как проблемой логики». Шпет так описывает эти беседы:
«Как кстати приехал Шестов! ...Приехал он вчера около 6, посидел у меня до 7, потом пошли к М арии А лександровне 3 (он ведь ничего не знает4, но, кажется, вообще ее не любит; и у него нет ничего с нею общего, так что пойти он предложил просто из вежливости). Там пробыли до 8, говорили о знакомых, о России, - «вообще». Потом мы пошли с ним за город, гуляли до 12 ч. О личном не говорили, за исключением нескольких слов, в которых он сообщил, что мне давно известно: что у меня масса врагов, что есть люди, которые не могут равнодушно слышать, тем более произнести мое имя, что даже при нем, - зная наши отношения, - не могут сдержаться и т.п. Главным образом говорили о моей работе, я рассказал свои мысли и планы, - все это обсуждали. Сегодня я ему прочту кое-что из написанного. Остается он до вторника, потом едет к себе в Швейцарию. Очень бы я хотел, чтобы ты прочла его книги, я считаю их исключительно выдающимися. По, с другой стороны, он очень труден для понимания, не потому, что трудно пишет, а по своеобразной манере делать отрицательные выводы, которые большинством и понимаются как скептицизм и пессимизм, между тем я не знаю более ищущего и желающего найти правду, чем он. Я давно хотел дать тебе его книги, но решил, что это именно то, что мы непременно должны вместе прочесть» .
«...Я прочел ему все, что здесь написал. Пожаловался, что не то выходит, что я думал. Я думал в 1-ой части только изложить историю вопроса, а у меня изложение отсутствует, а все критика. Он, напротив, говорит, что сам Бог толкнул меня в эту сторону. Его все очень заинтересовало и он настаивает, что выйдет очень интересная работа, если буду продолжать в том же направлении. Находит, что я очень много успел сделать и если буду работать таким темпом, то в 2 - 2 Vz года успею написать такую книгу, которая может дать не только магистра, но и доктора. Настаивает, что нужно только одно, эти 2 года целиком посвятить себя одной философии, так как это фундамент на всю жизнь, а других столь же благоприятных условий не будет. Ох, как я с этим согласен, но он не знает еще кой-чего, что мы с тобой знаем... Нравится ему и самый характер изложения: понятно, спокойно, но внутренно напряженно... Очень только настаивает на одном: не писать в этой книге «концов», т.е. не высказывать окончательных решений и не обнаруживать своих положительных взглядов до конца, так как это свяжет на будущее; сверх того, не выходить из рамок академичности. Он указал два места, где я, по его мнению, это уже делаю. Я совершенно с ним согласен, но указал, что трудно удерживаться. Он говорит, что хорошо это чувство знает, но что нужно до крови закусить губу и молчать. Пусть ругаются те, что могут в неделю разрешить все вопросы... Я говорил, что есть здесь еще некоторые внутренние мотивы, когда откладываешь самое важное, то какое-то внутреннее сомнение дразнит: откладываешь, потому что не можешь и, значит, никогда не сделаешь. Но я все же согласен с ним, когда он на это говорит: не сделаешь, значит не дано, но нужно самому дойти до конца и тогда только заговорить. Мы решили, что когда я кончу первую часть, я поеду к нему, мы все вместе прочтем и тогда подробно поговорим»6.
Еще одна общая, скорее психологическая, тема разговора Шпета и Шестова - проблема непонимания своих идей их современниками. После выхода «Апофеоза беспочвенности» Шестова многие считали скептиком , хотя сам он не мог понять, почему закрепилось такое мнение в философском сообществе. В одной из бесед с Е. Герцык он удивлялся: «Это я - скептик? - ...когда я только и твержу о великой надежде, о том, что именно гибнущий человек стоит на пороге открытия, что его дни - великие кануны» . Шпет, как и Шестов, тоже столкнулся со своеобразным непониманием в академической среде9. В беседах они пытались найти корни такого непонимания:
«Дорогая моя Наталочка, ...- Шестова проводил вчера ночью. Про субботу я писал, в воскресенье и понедельник мы провели все время вместе, разумеется. Я писал уже, что он сильно поднял мой дух (может быть именно, потому, тем сильнее на меня подействовало твое письмо). Очень много мы с ним говорили о нем, его теперешнем положении и его планах. Он умеет быть выше нападок и спокойно относится к тому, что его не понимают. В особенности много говорили об отношении к нему Мережковского10, который почему-то видит в Шестове главного себе соперника (а Мережковский - человек очень честолюбивый). Но удивительно, что и лично близкие ему Булгаков и Бердяев начинают смотреть на него враждебно только потому, что он не может успокоиться на их истинах.
Шпет и Гершензон. Сравнительный анализ философских интерпретаций творчества А.С. Пушкина
Среди опубликованных философских сочинений Шпета, фактически, нет ни одного, посвященного анализу пушкинской мысли. Исключением можно считать только «Очерк развития русской философии», в котором Шпет, характеризуя русскую культуру 18 века, не мог пройти мимо идейного содержания творчества Пушкина. Поэтому исследование темы «Шпет и Пушкин», на первый взгляд, не представляется возможным. Но в семейном архиве сохранился шпетовский личный экземпляр собрания сочинений А.С. Пушкина (1909) с пометками и записями на полях, благодаря которым можно поставить вопрос о влиянии пушкинского слова на развитие философских идей Шпета. Кроме того, не меньшую ценность для понимания шпетовского соучастного размышления над пушкинскими идеями приобретают его заметки на полях собрания сочинений Пушкина, которые сохранились в семейном архиве. Исследование этих заметок позволяет понять, какие мысли, идеи Пушкина Шпет попытался развить, интерпретировать, переосмыслить на философском уровне. Иначе говоря, эти заметки приобретают особый смысл в контексте философских размышлений Шпета и позволяют доказать, что идеи Шпета вырастали не только в контексте западноевропейской философской традиции, но и непосредственном общении с русской философской культурой, и идеи эти были поставлены самой действительностью, историей России. Только опыт осмысления был у Шпета научно-философский, а не морализаторский, как у Гершензона или Шестова. Пушкин может стать близким не потому что у него можно чему-то научиться, или следовать его заветам. Слишком односторонним представляется Шпету такая постановка вопроса. Нужно усматривать саму проблему, которая интересовала Пушкина и пытаться интерпретировать эту проблему, понимая действительный контекст и соотнося его с современными проблемами. Именно такой способ исследования и предпринимал Шпет в своих философских сочинениях. Поэтому можно воссоздать интеллектуальную беседу Шпета с Пушкиным, т.е. расширить социокультурный горизонт разговора между ними, обозначая основные вопросы, которые были значимы и для Пушкина и для Шпета.
Немаловажную роль в исследовании контекста «пушкинской темы» в размышлениях Шпета играют его письма к Н.И. Игнатовой (дочери редактора журнала «Русские ведомости» И. Игнатова). Наталья Ильинична была интересна Шпету как человек близкий ему по духу. Они подружились, работая в ГЛХНе. Между ними установилось внутреннее, симпатическое, как сказал бы Шпет, понимание, понимание с полуслова. И даже когда Шпет находился в ссылке, Наталья Ильинична приезжала в Томск, чтобы поддержать его. Именно в это время, в период работы над переводом гегелевской «Феноменологии духа», интеллектуальный разговор был Шпету особенно необходим. Их общение было идейно насыщенным и духовно обогащало обоих. Разговор развертывался в пространстве русской истории, литературы, музыки.
В начале 1921 года Наталья Ильинична уехала в санаторий. Между ними установилась переписка, которая частично сохранилась. Шпет в это время работал над «Очерком развития русской философии», он очень много читал, и прежде всего, размышлял над русской литературой. Достоевский, Толстой, Пушкин, Лесков - именно эти писатели помогли создать Шпету свой образ русского философствования. Но что интересно, Шпет, по легендам, производит впечатление приверженца рационалистической философской традиции, многие считали, что ему вообще чужда поэзия. Он сам спрашивает в одном из писем Н.И. Игнатову: «Почему Вы не говорите со мной о музыке и Пушкине? Сие не ясно... Вы боитесь, потому что «боитесь» раскрыть мое в этих делах невежество... (ибо, как заметила однажды Соловьева1, во многом Г.Г. превосходит С.С2. [благозвучием, как Вы изволили отметить, во всяком случае!], но вкус у С.С. - тоньше...)»3. На что Игнатова ему ответила, что наблюдая за внешним его поведением трудно поверить, что внутренний Шпет - другой, т.е. сложно вообразить, что у него есть свой поэтический мир. Она пишет: «к жизни нашей, житейской у Вас тоже жадность большая есть, и даже может быть, как Вы говорите, «страстность». Почему же не принести в нее что-нибудь от своего письменного стола? Ведь, как я понимаю и чувствую, жизнь только этим и может расцвечиваться. И, что главное, — за столом разве не лучше тогда будет? ...Глупо и смешно думать, что, когда человек 42 года прожил так, он захочет и сможет жить иначе; но что же делать, когда мне, увидав другое, хочется все время на это другое указывать и наивно кричать: разгреби хлам, - душа-то ведь чудесная!» . Действительно, за внешней строгостью и научностью шпетовских философских сочинений скрывалось иное, внутреннее, своеобразное экзистенциальное соло его размышлений в письмах и записных книжках.
Письма Шпета к Игнатовой интересны прежде всего как еще одна возможность создать его целостный образ. Ведь в них Шпет размышляет не только о своих переживаниях, вызванных чтением поэзии и прозы Пушкина, но рассказывает о своей работе над «Очерком по истории русской философии». Сохранились письма с его высказываниями о Пушкине, которые потом вошли в «Очерк...».
В одном из писем Шпет говорит: «А «русская философия» вполне возможна, потому что ежели Пушкин - случаен, то не значит, что Чернышевский, Писарев также случайны. Позвольте, это кто же и о ком писал: ..., се mepris cynique pour la pensee et la dignite de 1 homme5 — о себе он, что ли, а не о Писареве, Уварове, Булгариие? Да-с, Булгарин, этот паршивый отброс полыцизны, нюхнул и сразу уловил, где Русью пахнет. Но его-то и отвергала русская интеллигенция, скажете. Да -оппозиционная, потому что она имела своих Булгариных, которые из русских бурс как тараканы лезли во все оппозиционные журналы, а правительственная интеллигенция принимала самого Фаддея Булгарина. Пушкин - великая, величайшая случайность!»6. Это размышление Шпета приобретает особый смысл в контексте рассуждения А.С. Пушкина о «Философическом письме» П.Я. Чаадаева: «Я должен Вам сказать, -пишет Пушкин в письме к Чаадаеву, - что многое в Вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой жизни и достоинству - поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко»7.