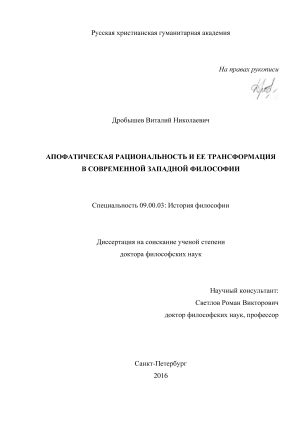Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Апофазис и негативная теология 24
1. Отрицание, небытие, различие 24
1.1. Пределы диалектической негативности 26
1.1.1. «Третий вид» 28
1.1.2. Проблематичность диалектического небытия 30
1.1.3. (Не)бытие «плана имманенции» 42
1.1.4. Деконструкция диалектики 45
1.1.5. О нигитологии 52
1.1.6. Выводы 56
1.2. Апофазис и антитетика 56
2. Гипотетическая сущность апофазиса 69
2.1. Предварительные замечания 70
2.2. Система апофатических гипотез 80
2.3. Выводы 93
3. Дифференцирование негативного умозрения 99
3.1. Тайновидение 99
3.2. Непостижимость и абсурдность 105
3.3. Пути к молчанию 113
3.4. Способность веры 122
3.5. Личность и Безличие 136
3.6. Критика апофатического разума
3.6.1. На пути унивокальности 158
3.6.2. Апофатический мыслитель 163
3.6.3. Апофатическое наставление 173
Глава II. Апофатическая парадигма западной философии 174
1. Неоплатонизм и теологизация Единого 174
2. Всеединство 180
3. Единое без трансцендентности 199
3.1. Единоголосие Различия 200
3.2. Нонсенс против абсурда 206
3.3. Три смысла трансцендентного 212
Глава III. Становление апофазы Иного 231
1. «Вместительный простор» Ничто 231
1.1. Экзистенциальная мотивация 231
1.2. Образ Иного 234
1.3. Мужественная вера 238
2. Хора вместо Единого 243
2.1. Другой платонизм 243
2.2. «Вера без веры» 256
3. Апофатическое Иное и христианская теология 279
3.1. Апофазис и дистанция 280
3.2. Общение против синергии 297
Заключение 314
Список литературы
- Проблематичность диалектического небытия
- Дифференцирование негативного умозрения
- Единое без трансцендентности
- Апофатическое Иное и христианская теология
Проблематичность диалектического небытия
Свою речь о хоре Платон предваряет указанием на то, что он будет говорить о вероятном, поскольку это не будет противоречить достоверным выводам, т.е. выводам, у которых есть законный логос-отец. Многообразные интерпретации хоры в целом следовали, как справедливо заметил Ж. Деррида, требованию философской серьезности, заданному Аристотелем, когда усилия сосредотачивались на том, чтобы «разгадать миф» о хоре. Он поставил эту традицию под вопрос простым и ясным соображением1: плотность метафор в этом рассказе Платона необычайна, однако все они остаются встроенными в его оппозиции, среди которых главными являются оппозиции эйдоса и становления, а также мифа и логоса. Однако хора образует, как говорит Платон, «третий вид». Поэтому очевидно, что она равно уклоняется от всех оппозиций, вследствие чего они не могут восприниматься как операциональные системы, обеспечивающие ее понимание. Метафоры вроде «восприемницы и кормилицы» не пролагают «обходной путь» к смыслу. Они сохраняют свое мифологическое значение, обретающее здесь предел (своеобразный мифический апофазис), но не выражают интенцию (грёзы), коррелятом которой являлась бы хора. Аристотелевская (а за ней и гегелевская) серьезность промахиваются, таким образом, мимо существа «незаконной речи» о хоре.
Эта незаконность явно выбивается из порядка речи, будь она правильной или софистической. Мысль, уводящая к немыслимому Единому, следует логосу, которым определяется и ложное суждение, но в случае хоры никакая речь невозможна. К ней можно лишь, как говорит Ж. Деррида, адресоваться. Если мышление и бытие тождественны, то хора не должна иметь отношение к бытию, в том числе отрицательное отношение, каковым являются ложь, иллюзия или смерть. «Третий род» безразличен к отрицанию, причем появляется он не в «Пармениде», т.е. не в апофатической речи, а в теологическом монологе о начальности и сотворении мира. Возьмем ближайшее в ней: хора уступает место для всякой вещи. Стало быть – и для Ничто как тотальности отрицаний, которое законно просится в космогонию Бытия. Иными словами, хора возможна для мысли, лишь если эта мысль трансцендирует бытие без полагания за ним какого-то сверх-бытия Непостижимого. Эта мысль должна обойтись без оппозиции возможного/невозможного и связать собственную невозможность уже не с запредельным для ума бытием, а с невозможностью самого бытия, с небытием, которое не есть бесконечное отрицание сущего в бытии (в том числе и как не-актуально сущего). Это та глубина, которую до недавнего времени избегала апофатическая речь, поскольку стремилась к Единому. Содержательно идея небытия бедна и определяется лишь негативно через невозможность бесконечности виртуально умножающего себя бытия (космологически) и иллюзорность всякой субъективации (практически). Однако ей нельзя отказать в запасе «краеугольных камней» для морали и религии.
Если предположить, что хора – трансцендентное небытие, то в платоновском повествовании она является теологическим антиподом демиурга, а то отрицание, которое к ней ведет, не является ни диалектическим, ни даже апофатическим. Ее невосприимчивость – иного рода, нежели самодостаточность эйдоса, поскольку она вообще не участвует в отношениях уподобления. «Воспринимая» сущее, хора «кормит» его небытием, обеспечивая «переплавку» вещества мира и ничего не принимая от него. Она как бы хранит бытие от бесконечного разрастания в себе самом вследствие Памяти, на уничтожение которой бытие не способно, поскольку в нем нет отрицания, которое не совпадало бы с рождением. Может быть именно потому, что хора теологична, она остается философской загадкой, не решаемой посредством отождествления ее с материей, вместилищем и даже апофатическим Иным, каким она стала у Ж. Деррида. Хора, используя его выражение, «анахронизирует» любой апофатический (анти)абсолют. Эта изначальная теологизация хоры явилась как бы формой утаивания апофатического Иного, речь о котором могла бы стать (и теперь становится) «законным» логосом наравне с тем, который ведет к Единому.
Итак, у нас имеется платоновский намек на то, что отрицание не определяется одним только его философским значением, но это еще не означает, что последнее не может быть иным, нежели диалектическим, даже когда оно служит апофазису. Пока в пользу такой возможности имеется лишь самое общее соображение о том, что для понимания бытия, «управляющего» собственным отрицанием, необходимо увидеть отрицание, способное расправиться с самим бытием.
Дифференцирование негативного умозрения
Поскольку Различие властно заявило о себе, потребовав освобождения мысли от структур репрезентации, на которых зиждется диктат Тождества, и утверждения совершенной унивокальности бытия, избавленного от тирании сущего с его неизбежными иерархиями, уходящими в немыслимую и неименуемую Основу, оно должно подвергнуть себя апофатическому испытанию, чтобы или умерить свои де(кон)структивные претензии, или доказать, что своей а-системностью оно способно преодолеть гипотетичность пределов всякой мысли. Мы в свою очередь не ожидаем от апофазиса чудодейственных средств, способных склеить мир, изрядно фрагментированный постмодерном1. Выбор всегда совершается практически и в своем пределе является религиозным Его роль в этом отношении представляется скорее негативной, поскольку ни одна из апофатических гипотез не имеет преимуществ перед другой и применение какой-либо из них в целях рационального познания никогда не сможет стать безусловным., т.е. основанным на абсурдной предметности, которая, как мы увидим, формируется параллельно апофазису и не может быть выведена из него.
Распределение бытия и небытия в «Пармениде» не является равным, поскольку полагание иного изначально определено как ущербное (а по Проклу оно вообще абсурдно)2. Во-первых, об этом распределении упоминается как о сочиненном в пылу юношеской любви к спорам, а не родившемся в зрелом философском исследовании. Во-вторых, выводы из предположения о его бытии практически не приведены, но объявлены смешными по сравнению с выводами из бытия и небытия единого, а о небытии иного вообще речь не велась. Однако то, о чем Платон умолчал, не так трудно восстановить, следуя по его же пути. Всего гипотез окажется в два раза больше1, и противоположные пары этих гипотез удобнее сопоставить попарно в четырех основных распределениях:
Если единое и бытие суть одно, то единое2 Если иное и бытие суть одно, то иное Если единое и небытие суть одно, то единое Если иное и небытие суть одно, то иное Если единое причастно бытию, то единое Если иное причастно бытию, то иное Если единое причастно небытию, то единое Если иное причастно небытию, то иное Если единое и бытие суть одно, то иное Если иное и бытие суть одно, то единое Если единое и небытие суть одно, то иное Если иное и небытие суть одно, то единое Если единое причастно бытию, то иное Если иное причастно бытию, то единое Если единое причастно небытию, то иное Если иное причастно небытию, то единое (137c-142b) 6 (163b-164b) 2 (142b-157b) 5 (160b-163b) 4 (159b-160b) 8 (165b-166c) 3 (157b-159b) 7 (164b-165e) Вопрос о девяти или даже десяти гипотезах «Парменида» (см. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Кн. 2. Харьков: Фолио, М.: АСТ, 2000. С. 458. Лукомский Л.Ю. Примечания / Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона. СПб.: Мiръ, 2006. С. 806) мы здесь опустим, нисколько не умаляя его важности.
Кроме того, к такому изменению нас подталкивает ближайшая задача – распределение бытия и небытия. I. Началом распределения единого и иного между бытием и небытием является их отождествление с тем и другим. 1. а) Если единое и бытие суть одно (первая гипотеза «Парменида»), то это одно не существует. Иными словами, Единое не может подчиняться онтико-онтологическому различию и адекватно мыслиться в категориях сущего. Это, в частности, означает, что Единое не может мыслиться совершенным бытием, обладающим движением, жизнью, душой и разумом («Софист» 249 а). б) Проделав с иным этот же путь, мысль приходит к несуществованию и этого тождества, поскольку - бытие становится предикатом сущих, но не целого, которое они составляют, т.е. не является бытием-как-различием, иначе это целое оказалось бы единым; - бытие будет возникать, пребывать и гибнуть, т.е. каким-то образом зависеть от того, что им не является, или снова окажется нетождественным различию; - пустота погибшего сущего и его места окажется существующей иначе, чем существует многое, что опять исключает тождество бытия с иным; - многое, поскольку оно не одно и в силу этого лишено не только центра, но и очертаний, не будет нигде иметь места – ни в себе, ни в едином – и потому не будет ни двигаться, ни покоиться; - многое не будет иметь различий с самим собой, поскольку всякое отличие окажется все той же инаковостью, и не будет тождественным себе, так как отстранение от себя делает его иным себе; - точно также различие не подобно и не неподобно, равно и неравно себе, как и отождествляемое с ним бытие не является бытием во времени, а, стало быть, оно не возникло, не настало и не настанет, т.е., опять таки, тождество иного с бытием не существует. Это первое распределение – распределение бытия – говорит о том, что оно не может быть тождественно ни единому, ни иному. И наоборот – ни единое, ни многое не есть бытие само по себе.
Отождествления небытия а) с единым (шестая гипотеза) и б) с различием дают лишь негативные выводы о каждом из них. Но зато оба они избавляются от тех противоречий, которые возникли при их отождествлении с бытием. А это значит, что оба они реальны как несуществующие (их несуществование всегда актуально для тождественной себе мысли). Однако вместе они не могут не быть (как и быть), поскольку это делало бы их тождественными, поэтому и небытие не тождественно ни единому, ни иному.
Итак, оба полюса не тождественны ни бытию, ни определенному ими (см. распределение III.2.) небытию, а значит сущность бытия как и небытия не может определяться ни через единство, ни через инаковость. Кроме того, мы получаем здесь высший апофатический смысл единого и иного, в котором их различие освобождается от полагания и отрицания бытия. Тем самым и различие достигает своего абсолютного значения, не определяясь ни различием сущего, ни онтологическим различием.
Относительное полагание единого и иного предполагает различие между ними, с одной стороны, и бытием и небытием, с другой. Это различие, однако, само по себе уже не может рассматриваться как своего рода инаковость единого или многого, т.е. оно исключает бесконечное умножение относительного полагания. Поэтому будет правильным понимать последнее как определенность обоих полюсов бытием и небытием. Первая гипотеза показала, что «механизм» этого определения не может стать предметом мысли, поскольку обратное либо предполагало бы в каком-то отношении тождественность единого или иного бытию или небытию, либо превратилось бы в упомянутое умножение.
Единое без трансцендентности
В «Боговидении» Лосский увязывает мысль о превышающей единство и причиняющей его Троице с чуждым неоплатонизму учением Дионисия о нетварных энергиях1. Если учесть, что для Плотина эманация не есть кенотическое истечение Единого, то вся тяжесть противопоставления должна была бы лежать в отличии этого истечения от творения и далее в выяснении того, как возможно бесстрастие творящего Бога, без которого трудно говорить о Его свободе. Но Лосский придерживается того, что эманации нисходят «в истощевании» и потому Единое для него оказывается рабом своей эманирующей природы. Отсюда непостижимое соединение единства и различия Лиц он мыслит тем, что только и дает возможность говорить о приобщении Богу по энергиям, в которых Божественность присутствует безо всякого умаления, и далее о непостижимом преображении тварного в нетварное. Иными словами, только творящий и, стало быть, личный Бог абсолютно трансцендентен в отличие от простого единства, в котором аккумулированы все отрицания. Здесь возникает ощущение того, что Лосский говорил об объективной Божественности в философии Плотина не в прямом смысле, а имея в виду, что только личностное начало, проявляющее себя в воле и действии, может устранить эту объективность, которая нарушает трансцендентность Бога. Плотин мог бы привести на это множество возражений, среди которых уже упомянутые бесстрастность как требование полноты и совершенства Бога, Его необремененность собственной сущностью и мышлением и как следствие – неопределимость посредством направленной вовне воли. Сюда можно добавить, что идущие от экзистенции понятия воли и желания, поскольку они берутся даже не в превосходной степени, а с отрицанием того, что в них понимается, оказываются двусмысленными: они вроде бы что-то значат для экзистенции и в то же время разрушают эту свою значимость, т.е. создают ложную иллюзию некоего «сверх-апофазиса».
Мы вновь на распутье – не получается ли так, что апофазис, возникающий из ключевого для экзистенции вопроса о личности, не способен что-либо ответить на него и представляет собой лишь момент отрицания в высшем катафатическом утверждении Личности или Безличия?
Последуем дальше за Лосским. Говоря об апофазе Экхарта, он приходит к выводу, что тот все же вводил бытие в отрицательное понятие о Боге1, следуя перетолкованию, которому Фома Аквинский подверг апофазу Дионисия в интересах своего «actus purus», утверждавшего разнозначность нетварного и тварного бытия. Но эта разнозначность не мешала тому, чтобы бытие стало единым экзистенциальным корнем, связывающим Бога и человека. В этом ходе мысли Лосский усматривал основу неоплатонической мистики Экхарта, предполагающей не трансцендирование, а, наоборот, вхождение в себя2. Заметим попутно, что воспроизведенное Хайдеггером искание Бытия, которое происходит в экзистировании и в нем являет свою истину, подтверждает силу этого мистического настроя. Но каким образом этот настрой располагает экзистенцию в отношении вопроса о личности?3 Может быть он является конкурентом апофатического опыта в решении этого вопроса, образуя нечто вроде экзистенциального апофазиса в противовес рациональному? Тогда какой из них является определяющим и в чем их единый корень?
Опыт мистический как опыт единения с Абсолютом (мы не берем пока в расчет, соединяет ли он по сущности или в энергиях), свидетельствует о Его существовании. Нельзя сказать, что этим он радикально воздействует на веру, если, конечно, она не слепа и не принимает этот опыт за доказательство предмета своих чаяний. В конечном счете бытие, просто бытие, непредметно, поэтому никакие переживания этой пустоты не способны наполнить ее рациональным содержанием, кроме одного, давно известного – пустота есть форма. Тяготение к этому наполнению всегда ставило мистику на грань пантеизма, в котором самость была обречена играть роль абстрактного момента истины. Поэтому мистика, которая так же колеблется между вечностью души и ее отрицанием и при этом по существу своему не способна выйти за пределы бытия, дает ничуть не больше апофазиса.
Лосский показывает обратный путь Экхарта от мистики к «диалектике» с ее знаменитым «путем превосходства», в котором отрицания уравниваются с утверждениями. В его основе лежит понимание бытия как первичной тварной реальности и смысла тварности. Нетварность вещей от этого не исчезает, поскольку выражает их виртуальную жизнь в Боге, когда ее еще не коснулось Божественное действие творения, изводящее их в самостояние. Виртуальная жизнь благороднее бытия в силу того, что она является неопосредованным знанием Бога, которое ее возвышает до высшей мыслимости (познанный предмет, получивший интеллектуальное бытие, благороднее пребывающего лишь в своей природе). Творение дает вещам возможность упасть в число и разделение, т.е. в иное, каковую возможность они и реализуют, удаляясь от Божественного бытия. Но важнее всего то, что преддверием творения Экхарт полагает его совершенный образец – внутритроичный процесс рождения и изведения Лиц который есть единое произведение Богом Себя. Лосский сразу обращает внимание на то, что главным принципом Божественности становится в этом случае Ее природа, составляющая высшее приходящее к себе Единство, над которым возвышается чистота Бога-как-Бытия. Отсюда личность Бога оказывается меньше
Апофатическое Иное и христианская теология
До обвинений в пантеизме Николай Кузанский определял границу между Богом и миром, не выходя за пределы своего понятия абсолютного максимума: «поскольку божественный ум есть абсолютнейшая точность всего, то получается, что любой сотворенный ум приобщается к нему в инаковости многообразия по-разному; сам же этот неизреченный ум пребывает вне приобщения…»1. Отсюда вытекало утверждение Кузанского о том, что сущностное соединение человеческой природы с Божественной невозможно, поскольку оно означало бы отождествление конечного с бесконечным2. Божественный разум является чтойностью воспринимающих его свет умов, которые могут лишь бесконечно приближаться к нему, но не могут с ним совпасть3. В такой же степени удалена Божественная природа в силу ее абсолютной простоты4, несоизмеримой с простотой нашего интеллекта5.
Мы помним, что для Кузанского творение есть развернутый во времени акт Божественного самопознания. Но если ни один тварный ум не может приобщиться к Божественному интеллекту, то остается лишь гадать о том, что Бог может узнать о Себе посредством мира, который не способен достичь совершенства. Непреодолимое различие в степени, поскольку оно оказывается единственным основанием для трансцендентности Бога, противоречит христианской апофазе в самых существенных пунктах. Во-первых, степень разделяет настолько, насколько и соединяет, так что всегда возможен вопрос, зачем она нужна Богу, почему Он не желает возвысить творение до Себя, наделив его способностями Своего ума, и что в этом случае значит обожение. Во-вторых, как уже отмечалось, она исключает собственно трансцендентность Бога, поскольку Он оказывается или порождающим бытие высшим Сущим или самим бытием. В-третьих, степень совершенно равнодушна к личности. Если только пропасть несовершенства отделяет человека от Бога, то теозис означает растворение личности в Боге, т.е. безликость и самого Бога. Впрочем, мы уже видели, что Личность Бога мало интересует Кузанского и внутритроичные отношения он мыслит сугубо рационально. Всех этих расхождений в совокупности и даже каждого из них в отдельности достаточно для того, чтобы констатировать пантеистическую сущность апофазы Кузанского.
Коснемся прежде вопроса о личности. Это, как мы увидели, вопрос, который выходит за пределы апофазиса в той мере, в какой он что-то утверждает помимо «неиной инаковости», и именно этим выхождением определяется христианский апофатический синтез. Скажем сразу, что места для Личности Бога в апофазе Кузанского нет, как не было его уже у Экхарта, который мыслил Св. Троицу в качестве процесса возвращения монады в себя.
Личный Бог составляет одну из центральных тем в сочинении Кузанского «О видении Бога». Многословное восхваление Творца, дарующего бытие и вечную жизнь, по-прежнему следует здесь идеям абсолютного максимума и совпадения противоположностей. Однако в основе рассуждений Кузанского лежит уже иной, экзистенциальный мотив, ближайшим образом выраженный в тезисе о том, что всякая вещь стремится к своему бытию1. Эгоизм сущего Кузанский находит божественным, поскольку дарование бытия всякой вещи он считает глубоко личным актом Бога, который не может быть разделен иными вещами2. Из того, что «нет вещи, которая предпочла бы своего бытия другим», следует, что самость является истиной бытия и потому ее бытие является подобием абсолютного бытия, которое является личным. Можно заметить, что личность здесь определяется в своем существе через собственность, в которой звучит то, что
В.В. Бибихин называл «захватом мира», предстающего целью деятельности, а не местом встречи, и потому – уходом от тайны «своего собственного».
Далее, воспевая любовь к Богу, благодаря которой можно подняться к слиянию с Ним, Кузанский заявляет о рациональности этой любви1. Оставаясь модусом интеллекта, любовь ничего не добавляет к рациональному отношению Бога и человека. Более всего она походит на воодушевление разума, у которого захватило дух от открытой им бесконечности. Искусственность этой «любви» особенно заметна, когда Кузанский говорит, что именно из триединства Бога следует возможность счастья, поскольку оно состоит в приобщении тварного интеллекта к интеллекту Божественному. Христология Кузанского столь же далека от любви, которая давалась бы сверх интеллекта. В ней нет ни слова о жертве Бога и о Крестной смерти как об абсолютном откровении Божественной любви. Самое большее, что Кузанский видит здесь – это отеческую любовь Творца к человеку, которая обеспечивает ему ничем не опосредованное «глубочайшее соединение» с Богом2. Гефсиманские борения и страдания на Кресте меркнут перед мыслью о том, что смерть тела не разлучает его «во всех смыслах» с интеллектом, который бессмертен, и что во Христе эта неразлучность имеет Божественную степень, так что смерть Христа была как бы изначально недействительной