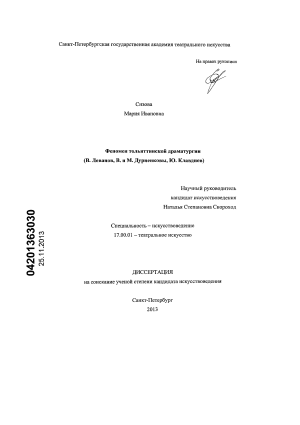Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Тольяттинский городской текст 21 -48
Глава 2. Вадим Леванов 49-80
Глава 3. Братья Дурненковы 81-88
3.1. Вячеслав Дурненков 89-108
3.2. Михаил Дурненков 109-128
Глава 4. Юрий Клавдиев 129-160
Заключение 161-169
Приложения
Приложение 1 170-173
Приложение 2 174-175
Приложение 3 176-178
Приложение 4 179-181
Список литературы
Вадим Леванов
В Екатеринбурге усилиями Николая Коляды на базе местного театрального института (ЕГТИ) был сформирован курс драматургов. Н. Коляда выпустил в свет целую плеяду учеников и последователей. В их числе В. Сигарев, О. Богаев, А. Архипов, Я. Пулинович.
И наконец в Тольятти усилиями Вадима Леванова при театре-студии «Голосова, 20» образовался «Цех драматургов», где силами студийцев воплощались пьесы НД. Вскоре здесь стал проводиться ежегодный фестиваль «Майские чтения», начал издаваться одноименный альманах.
Но несмотря на возникшее в тот период ощущение непрерывного хаотичного образования центров новой драматургии по всей России, общая проблема оторванности создаваемых пьес от их сценической реализации оставалась. Можно сказать, что до 1998 года (момента открытия двумя драматургами собственного театра - Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина) НД накапливала текстовой опыт. Этот опыт в полной мере реализовался позже, на созданных под эгидой драматургов площадках. Маленькие театры были ориентированы на постановки современных пьес молодыми режиссерами. Пожалуй, именно 1998 год можно назвать началом второй волны НД, когда тексты молодых авторов стали ставиться на экспериментальной сцене.
Именно в этот период появились первые спектакли - «Пластилин» К. Серебренникова по пьесе В. Сигарева с А. Кузичевым, В. Хаевым, В. Панковым и В. Толстогановой, «Шоппинг & Fucking» О. Субботиной по пьесе английского драматурга М. Равенхилла. Тогда же драматург М. Угаров дебютировал как режиссер собственной пьесы со спектаклем «Облом off». Затем вышли в свет «Пленные духи» В. Агеева по пьесе братьев Пресняковых.
Еще одним толчком к бурному развитию НД послужили семинары, начатые лондонским театром «Ройял Корт»1 в Москве в ноябре 1999 года. Итогом стал выпуск сборника пьес «Москва - открытый город», поставленных и показанных в «Центре драматургии и режиссуры» А. Казанцева и М. Рощина. Этот опыт оказался весьма успешным и получил продолжение в подобном формате более пяти лет, породив ряд пьес социальной проблематики, таких, например, как «Fashion», «Золотая моя Москва» В. Леванова. Именно тогда, опять-таки под влиянием кураторов «Ройял Корта» участники семинаров освоили технику «вербатим»2, т.е., использование дословной записи документального речевого материала. «Ройял Корт» был основан Джорджем Дивайном в 1956 г. как международный театральный проект, ориентированный на последние тенденции современной музыки и визуального искусства. Известность театру принесла постановка «Оглянись во гневе» молодого драматурга Джона Осборна - пьеса, имевшая огромный успех и изменившая весь английский театр. С течением времени на сцене появлялось все больше и больше новых пьес. Сегодня основное направление деятельности театра «Ройял Корт» состоит в том, чтобы в 3 000 ежегодно поступающих новых пьес находить наиболее интересные. Также театр спонсирует авторов, стимулируя создание новых текстов, проводит много семинаров в других странах. 2 «Вербатим» — (verbatim — дословная передача, отчет) был привезен в Россию в 2000-е г. английскими режиссерами Стивеном Долдри и Джеймсом Макдональдом. Эта техника драматургического письма, при которой творческая группа выбирает тему и начинает опрос группы реальных людей, чьи мнения необходимы для данного спектакля. При этом очень важны вопросы как начало будущей концепции. Актеры с диктофонами записывают интервью, а на репетиции приносят не только расшифровки, но и сценические характеристики персонажей. Дальше идет параллельная работа над пьесой и спектаклем.
И поскольку репертуарные театры все еще были настроены весьма скептически, предпочитая новым пьесам классический репертуар, в 2002 году в Москве молодыми литераторами и режиссерами Е. Греминой, М. Угаровым, М. Курочкиным, И. Вырыпаевым, А. Родионовым, А. Вартановым, С. Калужановым, Г. Жено, Е. Нарши, М. Кузьминой был создан «Театр-doc». Его название определяется прежде всего документальной направленностью драматургии. Репертуар составляли и составляют документальные пьесы, написанные на материале современной действительности и имеющие острую социальную направленность. Руководители театра превратили документальность в кредо, связав эту категорию с выживаемостью театра, его необходимостью для нового поколения. Именно с помощью документа, по мнению организаторов, театр сегодня может сохранить актуальность: «Наши (в смысле российские) спектакли абсолютно безопасны. Вы ничего не узнаете из них, что происходит сейчас со страной и с нами [ „. ]И прогноз неутешителен. Болезнь развивается. Молодые люди не ходят в театр. Модные журналы и радиостанции не ведут театральных обзоров. Телеканалы не держат театральных передач - рейтинга не будет. Надо признать, что они правы: театр не нужен людям... Те, кто хочет развлекаться, ушли в более качественные и технологичные места, а те, кто взыскует чего-то другого, пошли на выставки актуального искусства, артхаусные фильмы, домой, в конце концов, читать последние новинки интеллектуальной литературы. В театре сегодня приезжие, женщины за сорок с подругами, случайная публика, совершающая Ритуальный Культурный Жест»1.
Вячеслав Дурненков
Связанное с одинической мифологией название «Иггдразиль» буквально означает «конь Игга», то есть конь Одина (Игг — другое имя Одина), и отражает миф о мучительной инициации («шаманском» посвящении) Одина, который провисел, пронзенный копьем, девять дней на этом дереве. Это название, возможно, тоже подчеркивает роль Иггдразиль как пути, по которому обожествленный шаман (каким отчасти является Один) странствует из одного мира в другой.
Текст пьесы не предполагает обязательного и глубокого погружения в мифологический сюжет, он лишь отсылает к первоисточнику, кратко пересказывает содержание «Старшей» и «Младшей» Эдды. И уже на событийном уровне повторяет путь инициации Одина. Обряд насилия, произведенный над девушками в Камсе вполне можно сравнить с обрядом инициации проткнутого Одина. Преодолевая смерть и боль, герои — подобно мифологическому прототипу — выходят на совершенно другой уровень мировосприятия и сотворяют собственную реальность, пишут свой кодекс жизни, выстраивают свою бытийную вертикаль.
«Маша. Иггдразиль держит на себе весь мир, или что-то там такое. Я не знаю точно, но это не главное. Оно почти и есть весь мир. Мы рождаемся где-то там в земле, у корней, никто не знает как, и движемся по нему вверх» .
Возникает очень серьезный вопрос. Во-первых, снова появляется сюжет о сотворении мира, так или иначе присутствовавший и у Дурненкова. Во-вторых, обнаруживается иное видение людей как опавших листьев, прилипающих к чьим-то ботинкам. В-третьих, персонажи погружаются в миф, который приходит к ним из мира потребления. Ведь дерево, как было оговорено — это принт на обоях в комнате Маши. Действительно, они как будто находят его «на свалке», словно кем-то случайно выброшенную идею. И переработанная история о мировом дереве, как выясняется, начинает вмещать в себя обрывки других идей: скандинавского эсхатологического мифа, платоновской теории о мире вещей и мире идей, соловьевской идеи «вечной женственности» и т.д. Каждая из них не прописывается в тексте пьесы, а только намечается пунктирно.
На позицию Платона встает Маша, утверждающая вслед за автором «Государства», что в видимом мире нельзя понять истинный смысл вещей. Достигнуть его невозможно, к нему можно только идти. Из этой мысли в пьесе рождается тема непрерывного движения, вечного пути. Но это не созидательное движение, а кровавая тропа разъяренного человека, живущего по принципу «око за око, зуб за зуб». Насилие становится способом утверждения героя в мире, его главной идеей. То есть, городское пространство частично воспроизводит миф, а частично искажает его. Оно побуждает девушек пройти инициацию, но результат получается иной.
«Маша. Нет. Представь себе людей в качестве идеи. Просто идеи. Как клочок света, как... ну, вот лампочка горела, и погасла, а на счетчике ожог остался — и мы помним о лампочке. Идея — еще не человек, это просто память о том, что он будет. И каким он будет»1.
Соловьевская «вечная женственность», основанная на идее вселенской красоты, спасающей мир, соседствует с агрессивным жизненным настроем героинь. Женщина — первородная основа мира, но она же — ядерная бомба, которая может в любой момент взорваться и уничтожить все на своем пути. «Юля. Все! Весь мир должен бояться женщин! А в особенности таких вот молодых девушек, как мы. Потому, что мы не имеем ни малейшего понятия о мире. Мужчины не оставили его. Ни капельки»1.
Женщина и женское фактически становится творящим и порождающим началом, в отличие от мужчины, который в таком контексте выступает в роли ненасытного, примитивного хтонического чудовища, пожирающего окружающий мир. Единственными мужскими персонажами пьесы являются наркоманы из Комсы, которые в интеллектуальном и нравственном отношении значительно уступают героиням. Вполне закономерна нарождающаяся любовная линия между двумя девушками (поцелуй в квартире), не имеющая никакого продолжения.
Но автор подчеркивает: женщина в современном мире обезличивается, становится бесполым агрессивным существом, способным плюнуть, растоптать, уничтожить мужской мир. Ее поведение можно сравнить с поведением 14-летнего подростка, бунтующего против заданного бесправия.
«Юля. Ты спрашиваешь, изменилась ли я? Ладно, я тебе отвечу. Не-а. Потому что не хочу. Потому что, может быть, моя теория — а на самом деле это не теория, и не жизненная позиция, а мечта — и не применимая ко мне, я все равно хочу, чтобы была применима.
Маша. Знаешь что? Ты, видимо, все-таки немного изменилась, если хочешь что-то делать, а не мечтать. ... Это так просто — взять и переломить свою жизнь. Не сломать. Переломить. Просто страшно. Потому что, я так думаю, если ты будешь весь мир, то вокруг тебя будешь только ты»
Михаил Дурненков
Это замечание кажется важным, поскольку прошлый опыт авторского творчества отражал особую роль женщины — «ноль-позицию». Мы уже выяснили, что в центре каждого текста находится герой — мужчина, в форме монолога повествующий о драме собственного существования. Женский образ нивелировался и редуцировался драматургом, а сама героиня существовала как тень мужского восприятия. Очевидно, что дилогия о Ксении и Салтычихе стала в какой-то мере компромиссом, новым шагом в развитии левановского героя. Другой вопрос, что центральным здесь становятся не тендерные противоречия мужчин и женщин, а бытийные проблемы «вселенского добра и зла».
Закономерно, что финальная авторская ремарка закольцовывает композицию, напоминая нам о цикличности и вневременном характере истории.
«Мертвое тело де Сада безжизненно сваливается на пол вместе с креслом, колесо коего крутится, крутится, крутится»1... Противостояние плотского и духовного имеет — по Леванову — циклический характер, невидимая чаща весов склоняется то на одну, то на другую сторону. Справедливости ради стоит оговорить, что вера в пьесах, как и вера в жизни у драматурга не носила строго конфессионального характера. Она скорее служила средством для воплощения драматургических задач, главной из которых было создание абсолютного героя, свободного от прежних страхов, неудач, простившего и прощенного.
«Вадим был из семьи старообрядцев. И хоронить его повезли в старинную старообрядческую деревню, к отеческим могилам. Это было для него важно: тихий, провинциальный, скромный, он изумлял слиянием внешнего благообразия и хулиганским настроением, богоборческим характером, деятельным сознанием. В его глазах бился огонек по-хорошему сокрушительной иронии, неистовства»1, — вспоминает Павел Руднев. Тем не менее, в театре без контекста «Ксения» воспринималась многими как история о святой. Правомерность такого утверждения подкреплялась памятью литературных корней произведения. Вспоминали зарубежных предшественников: «Чудо св. Антония» М. Метерлинка, «Святую Иоанну» Б. Шоу, «На пути в Дамаск» А. Стриндберга. Е. Горфункель вспоминала, что у французского драматурга XYII века Жана Ротру была пьеса под названием «Святой Жене» — об актере древнеримского, еще тогда подпольного христианства, который на глазах у императора Диалектиана слышит голос Бога и внемлет ему, чем тут же обрекает себя на мученическую смерть от язычников. Но и это был утонченный театр, а не действительное религиозное обращение»2.
Обращались к современному театральному опыту постановок житийной литературы. «Было, кажется, только камерное «Житие и страдание преподобной мученицы Февронии» Анатолия Праудина. Февронии, кстати, не было там дано никаких слов, она только тихо-тихо читала Писание, а Светлана Замараева играла так, будто хотела, чтобы ее совсем не было видно, это «минус-присутствие» центральной героини давало замечательный эффект сценического смирения» . Задавались вопросом: «Зачем такой персонаж нужен театру» 4? И в чем его современность? Безусловно, В. Фокин обратил внимание на пьесу В. Леванова не вдруг. Два художника, два мастера работы с мифом города воплотили на сцене Александрийского театра удвоенную петербургскую реальность. Факт удвоения был связан не только с личностью режиссера, ведь ни для кого не секрет, что В. Фокину очень близка тема города на Неве. Леванов же, как было отмечено в первой главе, оказался одним из первых современных драматургов, работавших с мифом города Тольятти (вообще с мифом города). После его проекта «Жить и умереть в Тольятти» последовала целая череда схожих историй в Москве, Казани, Кемерово. Ввиду этого очевидно тяготение двух художников к общему истоку — мифу города.
Рассматривая пьесу о Ксении блаженной отдельно, как это попытался сделать режиссер В. Фокин, следует иметь в виду: главной особенностью данного произведения явилась структура. Озаглавленная автором как «житие в клеймах», она сразу же отсылает мысль читателя к живописному иконописному жанру. Изначально клеймами в русской иконописи назывались небольшие самостоятельные композиции на сюжеты из жития того святого, кому посвящена икона, располагающиеся вокруг центрального изображения — средника. Они принадлежат изобразительному искусству и совершенно не свойственны литературе, однако Леванов попытался переработать этот принцип композиции в драматическую структуру. Как верно замечает И. Бойкова: «структура эта отчасти освоена театром XX века: монтаж эпизодов, полифоническое проведение темы в разных голосах с ее нарастанием, развитием»1. Выстраивая драму в клеймах, автор акцентирует внимание на изначально заложенном в иконописной структуре свойстве. Любопытно, что мизансценическое решение спектакля как нельзя лучше соответствует композиции текста. Связано это вовсе не с желанием режиссера «угодить автору». В. Фокин «алгеброй проверяет гармонию», а точнее, геометрически ее выверяет. Его мизансценические построения следуют логике столкновения линии и круга. Именно такая схема заложена в архитектурном плане Петербурга согласно «Квадратуре круга» Ж. Леблона. Линия — это шествие чиновников в «Ревизоре», трудовые будни бюрократов в «Двойнике», разговоры на лестницах в «Живом трупе», выходы героев на трибуну в «Женитьбе», очередь в «Кресты» в «Ксении. Истории любви».
«Круг» удивительно точно срабатывает в первой сцене кружения героини после известия о смерти Андрея Федоровича, — бесконечное, до изнеможения, до обморока выплескивание себя в беге. Замкнутый круг и слившаяся со смертью история чьей-то жизни ставит перед зрителем неизбежный вопрос: «Что же дальше? Какое драматическое событие последует после исходного?»
По мнению критика Г. Заславского — никакого. «С криком «Умер!!!» театральная история заканчивается (...)У святого нет выбора, а там, где отсутствует выбор, нет и драматического события. С этой точки зрения и клейм в спектакле также нет, поскольку нет в этой истории поворотных событий»1. Но, как было сказано выше, повторяющимся событием дилогии было странное пересечении двух диаметрально противоположных по жизненному пафосу героинь — Ксении и Салтычихи. Изолированная «Ксения» стала звучать совершенно иначе.
Юрий Клавдиев
Что сразу же можно зашиться» . «Все в этой пьесе как положено — завязка-кульминация-развязка, но жанр ее определен как "концерт для чтения". Помимо слесарей, в нем участвует: мистическая девушка-магнит — тридцатилетняя и потрепанная жизнью, в финале ее принимают на службу в ВОХР металлоискателем»2. Драматург, обращаясь к разработке стихотворного жанра хокку, начинает его деконструировать через игровой прием адаптации японской поэзии, перемещении ее на русскую почву. В результате возникает присущая постмодернизму ирония, отстраняющая текст от действительности. Как и в ранних пьесах В. Дурненкова, здесь жанр пьесы тоже определяется авторской иронией и игрой с читателем. В спектакле актеры (Евгений Антропов, Александр Усердии, Сергей Шевченко, Никита Емшанов, Константин Гацалов, Виктор Костровский, Анна Котова, Александра Ребенок) используют предложенный драматургом игровой прием.
В спектакле М. Угарова и Р. Маликова актеры не играли ситуации, написанные в пьесе, а просто подавали реплики, как на первой читке. Однако в переломные моменты действия отношение актеров к персонажам менялось с иронического на сочувственное. В кульминационной сцене, когда все персонажи собирались за одним столом в ожидании призрака Синего слесаря, по ВАЗовской легенде снабжающего рабочих спиртным за определенную плату (потерю документов, перелом ноги и т.п.), актеры решительно меняли способ существования. Их герои осознавали, что перед ними не просто фабричный домовой, а ирреальное существо, подобное Мефистофелю. В этой ситуации действовали не исполнители и не «рабочие», а просто люди, которым пришла пора расплатиться за совершенные ранее грехи. Таким образом, режиссеры продолжили игру на театральном поле.
Жанровые параметры этого спектакля неоднородны: от полного отстранения, заставляющего зрителя лишь забавляться, слушая текст - до сочувственного погружения в драматическую ситуацию, в которую попали персонажи.
Оформление спектакля (художники К. Перетрухина и Я. Каждан) представляло собой типичный минималистский облик постановок «TeaTpa.doc»: черный кабинет с облупившейся штукатуркой и заколоченными окнами. На длинных деревянных лавках неподалеку от батареи рядком сидели актеры. От зрителей их отделял лишь принесенный во время действия стол с горсткой втулок, перекатывающихся с одного края на другой. Время от времени исполнители поднимались с мест, шли в угол, куда падал свет единственного софита, и читали хокку собственного сочинения (как вариант - рассказывали историю из своей жизни). Такая схема напоминал ряд концертных номеров: «Проходная», «Русский найм, бессмысленный и беспощадный» и т.п. Молодая женщина-конферансье эффектно появлялась из затемненного угла сцены и в подчеркнуто эстрадной манере объявляла названия эпизодов пьесы —историй из жизни слесарей. У одного героя, угловатого молодого парня, только что поступившего на завод, она была связана со странной влюбленностью в него Девочки Магнита. У Геннадия — регулярно появляющемся в холодильнике борщом, сваренным когда-то погибшей женой.
Кроме того, в спектакле «Синий слесарь» была подчеркнута интереснейшая особенность творческой индивидуальности М. Дурненкова, использующего вербатим не как прием, а как часть сюжета. Именно в процессе работы над этим текстом Дурненковым был создан главный герой — молодой человек, мечтающий стать писателем. Этот персонаж далек от литературы, однако испытывает желание «запечатлеть на бумаге жизнь без прикрас», и с такой благородной целью поступает простым слесарем на завод. В дальнейшем этот герой плавно перекочует в другие произведения драматурга, обретя статус творца и художника. В «Синем слесаре» он еще просто слушает жизнь, пытаясь найти точки соприкосновения между нею и своими фантазиями. Так, Девочка Магнит — в спектакле любопытно подчеркнута «выдуманность» героини: ее играет долговязый парень в вязаной шапке с помпоном— постоянно приходит к главному герою, чтобы вернуть «смысл», пробудить к жизни.
Следующим шагом драматурга на пути к своему герою и театру стал прочный и плодотворный союз с режиссером М. Гацаловым.
Первой совместной работой М. Дурненкова и М. Гацалова стал «Хлам»1. Пьеса написана в 2008 г., спектакль поставлен в 2011-м в «Центре драматургии и режиссуры» М. Рощина и В. Казанцева. В пьесе сопоставлялись два локализованных образа пространства: провинции и Москвы. Мегаполис в этом тексте выглядит явным завоевателем, поработителем, зловещей машиной для переработки человека в хлам. «Страшно и неуютно в захламленном мире Михаила Дурненков 2. С этим трудно не согласиться. Агрессивная среда как бы ненароком толкает даже апатичного человека на преступление, пробуждает в нем животные инстинкты. Любопытно, но спустя три года к этой же теме, хотя и в другом ракурсе обратится и Вячеслав Дурненков в пьесе «Север».
Конструируя «Хлам» как параллельный рассказ о судьбах трех совершенно разных людей (сценариста Филиппа, подростка Толстого и матери наркомана Анны Григорьевны), автор сплетает все линии в финальной точке. В «Хламе» нет привычного деления на действия и картины, текст состоит из отдельных историй, объединенных общей событийной канвой. Каждая новая линия начинается с подзаголовка, обозначенного именем героя; им же и заканчивается. Если не центральной (в подобной структуре едва ли можно выделить центр), то наиболее значимой, более того, структурообразующей, становится история сценариста Филиппа, который пытается написать «удачный» текст на продажу. Из-за обстоятельства все дальнейшие события пьесы предстают как полуреальность-полувымысел героя. Возникает своеобразная игра с читателем, участником которой является сам Филипп. Безусловно, как Толстый и Анна Григорьевна, он решает насущные проблемы, но помимо «бытовухи» и хлама его интересует еще одна незначительная вещь — «дозволенность» и «вседозволенность» как способность человека изменить привычный ход вещей. Жуткая история корейского студента, устроившего бойню в университетском кампусе в штате Вирджиния (в свое время о ней много писали СМИ), постоянно всплывает в его беседах с разными людьми. Опять, как и в ранней пьесе бр. Дурненковых «Культурный слой», вопрос, мучивший героя Достоевского, «тварь ли я дрожащая или право имею», является лейтмотивом пьесы, и надо сказать разрешается вполне в духе Раскольникова - только не в реальной жизни, а на страницах недописанного сценария, героем которого становится молодой провинциальный парень Толстый.