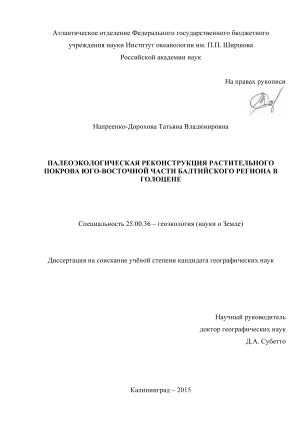Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. История палеореконструкций голоценовой растительности на территории калининградской области. 13
ГЛАВА 2. Междисциплинарный подход для реконструкции растительного покрова в голоцене 19
2.1. Анализ ботанического состава торфов и исследование строения торфяной залежи 20
2.2. Палинологический анализ 24
2.3. Радиоуглеродное датирование 26
ГЛАВА 3. Современные природно-климатические условия прегольской равнины и нижненеманской низменности . 31
3.1. Прегольская озёрно-ледниковая равнина и исследуемые водно-болотные экосистемы 31
3.2. Нижненеманская низменность и исследуемые болотные экосистемы 36
ГЛАВА 4. Реконструкция развития водно-болотных экосистем на территории калининградской области 42
4.1. Особенности формирования болот Прегольской озёрно ледниковой равнины 42
4.1.1. Реконструкция развития болота Целау 42
4.1.2. Реконструкция развития озера Малого Оленьего 60
4.2. Особенности формирования болот Нижнинеманской низменности 72
4.2.1. Реконструкция развития Большого Мохового болота... 72
4.2.2. Реконструкция развития болота Козьего 90
ГЛАВА 5. Реконструкция изменений растительного покрова в прибрежных и континентальных районах юго-восточной части балтийского региона в голоцене 118
5.1. Формирование растительного покрова Прегольской озёрно-ледниковой равнины в голоцене 118
5.2. Формирование растительного покрова Нижненеманской низменности в голоцене 141
5.3. Палеоэкологические обстановки на территории Калининградской области и сопредельных регионов в голоцене 151
Заключение 158
Список литературы..
- Палинологический анализ
- Нижненеманская низменность и исследуемые болотные экосистемы
- Особенности формирования болот Нижнинеманской низменности
- Формирование растительного покрова Нижненеманской низменности в голоцене
Введение к работе
Актуальность исследования. Палеореконструкции условий прошлых эпох в их хронологической последовательности позволяют полнее понять закономерности развития природы в настоящем и дать обоснованный прогноз их развития в будущем. В связи с этим изучение природной среды голоцена имеет не только научное, но и практическое значение, поскольку именно в голоцене сформировались новейшие черты климата, почв, растительного покрова, а затем начались антропогенные изменения ландшафтов.
Особо важную роль для изучения развития природных экосистем в голоцене играют торфяные залежи, так как скорость аккумуляции органического вещества на болотах превышает интенсивность его разложения, поэтому субстрат обитания болотной растительности почти целиком является продуктом жизнедеятельности самой растительности (Сукачев, 1973). Болота – уникальные по своим характеристикам экосистемы, где консервируются сведения об условиях природной среды в целом (аккумуляция спорово-пыльцевого материала) и торфонакопления в частности. Торфяники служат естественной летописью динамики растительного покрова, которая может быть расшифрована путём биостратиграфического (ботанический состав торфов) и спорово-пыльцевого анализа (Пьявченко, 1958; Денисенков, 2000).
Торфяные отложения, как правило, не содержат перерывов и надёжно датируются радиоуглеродным методом. Благодаря этому из торфяников возможно извлекать информацию высокой степени временного разрешения.
Полученная информация используется при расчленении и корреляции отложений, и даёт основу для понимания и правильной оценки структуры и развития современных ландшафтов. Это позволяет решать многие проблемы рационального природопользования и охраны болот.
После освобождения юго-восточной части Балтики от ледникового покрова на её территории сформировалось несколько типов ландшафтов. Хотя история формирования палеоэкологической обстановки на территории нынешней Калининградской области в целом известна (Steffen, 1931; Победимова, 1955), история и геохронология развития растительного покрова в отдельных ландшафтных районах изучены ещё недостаточно.
Большое значение для палеореконструкций лесных и водно-болотных экосистем имеют палеоботанические исследования на ключевых объектах в отдельных ландшафтных районах с использованием современных методов, которые позволяют детализировать состав локального растительного покрова и выявить вероятные причины сукцессий.
Цель – палеоэкологическая реконструкция развития растительного покрова юго-восточной части Балтийского региона в голоцене на примере двух крупных ландшафтных районов Калининградской области (Прегольской озёрно-ледниковой равнины и Нижненеманской низменности).
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. выявить последовательности изменений в составе растений-
торфообразователей и характер смены палеосообществ водно-болотных экосистем на основе изучения ботанического состава торфов и строения торфяной залежи;
2. выявить характер взаимодействия водно-болотных экосистем с
окружающими ландшафтами путём построения литостратиграфических и
геоморфологических профилей;
3. определить время начала торфообразовательного процесса и скорости
торфонакопления в разные периоды голоцена с использованием
геохронологических данных;
4. выявить особенности развития растительного покрова в изучаемых
ландшафтных районах по данным анализа спорово-пыльцевых комплексов;
5. провести корреляцию палинологических и радиоуглеродных данных и
определить этапы перестроек растительного покрова под воздействием
климатических и антропогенных факторов.
Объект исследования – водно-болотные экосистемы на территории Калининградской области, три – в пределах Прегольской озёрно-ледниковой равнины (верховое болото Целау, Подлиповский торфяник, заболачивающееся озеро Малое Оленье), две – Нижненеманской низменности (верховые болота Козье и Большое Моховое).
Теоретическая и методологическая основы исследования. Важное значение при палеоботанических исследованиях приобретает комплексный анализ макроостатков растений и палинологических остатков. Данные анализа макрофлоры позволяют установить состав фитоценозов, которые были распространены в районе формирования флороносных отложений, т. е. реконструировать азональные растительные ассоциации.
Перспективность палинологического метода обусловлена массовой
встречаемостью спор и пыльцы, сохранением этих объектов в осадочных толщах различного генезиса. Палинологические комплексы отражают растительность, произраставшую достаточно далеко от мест захоронений макрофлоры и позволяют интерпретировать зональный тип растительности. Сочетание двух методов исследования позволяет наиболее полно восстановить состав ископаемой флоры.
В процессе работы применялись следующие подходы и методы:
-
Литостратиграфический подход: отбор непрерывных кернов торфяно-болотных отложений с высоким разрешением, нивелировка поверхности болотных массивов, зондировка торфяной залежи, построение литостратиграфических профилей изучаемых болотных экосистем.
-
Палеоботанический подход: определялось количественное содержание растительных макроостатков в пробах водно-болотных отложений, при этом выяснялся тип палеобиоценоза и прослеживалось его историческое развитие, устанавливались изменения видового состава растений на протяжении голоцена.
На основе данных спорово-пыльцевого анализа строились спорово-
пыльцевые диаграммы, отражающие смену растительного покрова,
климатические и антропогенные изменения в исследуемых районах.
3. Палеогеографический подход: на основе интерпретации полученных
данных в сочетании с радиоуглеродным анализом образцов прослежена история
становления и развития изучаемых природных экосистем.
Применение междисциплинарного (комплексного) подхода,
предполагающего сочетание литостратиграфического, палеоботанического и
палеогеографического подходов, позволило повысить достоверность
палеореконструкций и получить качественно новые данные.
Абсолютный возраст осадков определялся в лаборатории радиоуглеродного датирования Института географии Российской академии наук (г. Москва, лабораторный индекс «ИГАН») радиоуглеродным методом.
Научная новизна работы заключается в том, что полученный качественно новый материал по палинологии и ботаническому составу торфов Калининградской области впервые позволил выявить основные закономерности развития экосистем: лесных, болотных и антропогенных на каждом этапе голоцена.
Прослежено развитие зональных сообществ в двух крупных ландшафтных районах Калининградской области в позднем голоцене, определены коренные (первичные) растительные сообщества лесов; изучена лесообразующая роль основных древесных пород изучаемой территории в течение голоцена (определено время появления, максимального развития, угасания) в естественных и нарушенных местообитаниях.
Впервые для Калининградской области детально изучен ботанический состав ряда торфяных разрезов, определены растения-торфообразователи, послойно описаны изученные разрезы, восстановлены растительные сообщества, участвующие в формировании торфяной массы, проведено датирование хронологических рубежей формирования растительного покрова болот на основе калиброванных радиоуглеродных данных.
Защищаемые положения:
1. Крупные верховые торфяники Калининградской области – это молодые
геологические образования, основное развитие которых происходило в позднем
голоцене с высокой скоростью торфонакопления – более 2 мм/год.
2. Болота Нижненеманской низменности имели продолжительную низинную
стадию с господством черноольшаников, в то время как на озёрно-ледниковой
равнине эта стадия была очень непродолжительной, древесный ярус быстро
выпадал из состава сообществ.
3. Территория Калининградской области не образует «единого района
пыльцевых диаграмм», предложенного М.И. Нейштадтом (1957). Выделено два
разных в палеоэкологическом отношении участка. Граница между ними
проходит примерно по рекам Дейме, Преголе и Писсе.
4. Бук в составе широколиственных лесов Прегольской озёрно-ледниковой
равнины был важным компонентом вплоть до начала малого ледникового
периода и интенсивного антропогенного освоения территории.
Практическая значимость работы. Полученные данные по истории
формирования растительного покрова в изученных ландшафтных районах могут
быть использованы для картирования и районирования зональной и азональной
растительности в разные периоды голоцена. Данные по скорости
торфонакопления могут быть использованы в региональных расчётах темпов аккумуляции углерода.
Результаты важны при разработке подходов к охране природы в регионе и методов восстановления коренной растительности на охраняемых природных территориях, а также при определении ценных почв региона.
Результаты внедрены в учебные курсы БФУ им. И. Канта: «Учение о биосфере», «Надорганизменные системы», «Экология», и использованы при подготовке серии научно-популярных изданий «Природа Калининградской области» (Природа …, 2014, 2015), а также в эколого-просветительской работе и проектной деятельности школьников г. Зеленоградска и пос. Б. Исаково Калининградской области.
Личный вклад. В работе обобщены и систематизированы материалы собственных исследований, проводившихся в 2007-2015 гг., проанализирован большой объём зарубежной и отечественной литературы по геоэкологии лесных и водно-болотных сообществ. Автор непосредственно участвовала в получении и обработке фактического материала, в экспедиционных и камеральных исследованиях, освоении и применении методик. Лично был выполнен спорово-пыльцевой анализ 176 проб из 4 колонок. Каждая проба просматривалась под микроскопом (не менее 300 зёрен пыльцы древесных растений в пробе). Самостоятельно проведена статистическая обработка полученных данных и построены спорово-пыльцевые диаграммы. Автором была проведена обработка 778 торфяных проб из 21 колонки и микроскопический анализ на ботанический состав торфа. Были построены и проанализированы литостратиграфические разрезы и спорово-пыльцевые диаграммы.
На основе комплексного анализа с применением современных методов относительного и абсолютного датирования определён возраст изученных разрезов (выделены слои торфа, характерные для разных палеоклиматических обстановок). Реконструировано развитие торфяников и лесных экосистем в исследованных районах на ключевых участках.
Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены и
обсуждены на многих международных и российских конференциях (Москва,
2009, 2011; Санкт-Петербург, 2010, 2011; Хельсинки, 2012; Италия, Падуя, 2013;
Литва, Клайпеда, 2013; Петрозаводск, 2014; Калининград, 2015), а также на
конкурсах научных работ молодых учёных Калининградской области
(Калининград, 2011, 2014), на заседаниях секции Учёного совета
Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Калининград, 2011, 2014, 2015) и ФГБУН Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (Петрозаводск, 2014, 2015).
Место проведения работы. Работа выполнена в лаборатории геоэкологии в
рамках плана научно-исследовательских работ Атлантического отделения
Института океанологии им. П.П. Ширшова по теме «Процессы формирования и
современные изменения геологической среды в Балтийском море и на
характерных участках Атлантического океана» (Госрегистрация №
01201376666), а также при финансовой поддержке РФФИ, РГО и др. (гранты РФФИ: № 11-05-90753-моб_ст, № 12-05-90808-мол_рф_нр, № 12-05-31049-мол_а, № 14-35-50125-мол_нр, № 15-35-50125-мол_нр; грант Фонда содействия инновациям для молодых ученых №11417р/17124 по программе «УМНИК» 2012; молодежный грант РГО, договор №18/2014-ДП2, 2015).
Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы, изложена на 174 стр., иллюстрирована 32
рисунками и 8 таблицами. Список литературы содержит 125 источников, в том числе 58 на иностранных языках.
Благодарности. Автор глубоко признателен научному руководителю Д.А. Субетто за поддержку и помощь в работе, М.Г. Напреенко за помощь и консультации, О. Нелле и Х. Узингеру (Экологический центр Университета Кристиана Альбрехта, Германия) за помощь в освоении спорово-пыльцевого анализа, за лекции и практический курс по палинологии, Г. (Государственный институт геологии Польской академии наук) за помощь в освоении способов интерпретации спорово-пыльцевых диаграмм. В.В. Сивкову, Р. Крамарской, А. Битинасу за предоставление условий необходимых для выполнения исследований и поддержку, Э.П. Зазовской – за радиоуглеродное датирование. М.А. Дротикову, В.В. Гусеву, К.Н. Малахатько, Е.С. Малютиной, И.Н. Лысанскому, С.А. Кручинину, В.Р. Фархутдиновой за участие в полевых работах.
Палинологический анализ
В истории изучения голоценовой растительности на территории нынешней Калининградской области, в том числе с помощью болотных отложений, можно выделить два периода – довоенный (середина XIX века-1945 г.) и послевоенный (с 1945 г. по настоящее время).
Довоенный период (середина XIX века-1945 г.). Научное изучение болот на территории нынешней Калининградской области началось ещё в середине XIX века. Именно тогда в немецких научных изданиях стали появляться сведения о восточнопрусских болотах как геологического, так и ботанического характера.
Так, в 1869 г. вышла в свет известная работа Berendt (1869) о геологии Куршского залива, где довольно подробно рассмотрена послеледниковая история формирования Нижненеманской низменности (Kurische Niederung), в частности, выдвинута мысль об имевших место двух поднятиях и опусканиях этой территории, сменявших друг друга, что проливало свет на характер строения многочисленных болот, находящихся здесь.
Одной из первых обобщающих работ стала статья Jentzsch (1879) о геологии и геоморфологии болот Восточной Пруссии, на основании чего была проведена типология болот в провинции. Работа не потеряла значения вплоть до настоящего времени.
К началу XX века Восточная Пруссия стала регионом, где изучение болот велось наиболее активно. Не случайно поэтому именно здесь появился один из первых трудов, ставших классикой научного болотоведения – монография Weber (1902) о болоте Аугштумаль в дельте реки Неман. Немногим позднее вышла другая работа Weber (1908), посвящённая строению торфяной залежи болота Свиного (Cranzer Moor) в корне Куршской косы.
А в 1929 г. выходит монография H. Gams и S. Ruoff «История, строение и растительный покров Целау и окрестностей», в которой помимо детального анализа растительного покрова одного из крупнейших болот в Восточной Пруссии, были подробно проанализированы торфяная залежь, гидрографическая сеть болота, построены спорово-пыльцевые диаграммы и описан ход истории развития болотного комплекса, установлена хронология для развития болота и прилегающей территории. Одними из первых, авторами проведено региональное районирование болот Европы.
В 1931 г. Steffen в работе по растительности Восточной Пруссии обобщил полученные другими авторами данные, рассказывая о заселении растительностью территории Восточной Пруссии с конца ледникового периода, подробно о климате и растительности в каждый период голоцена.
В 1932 г. вышла работа Gams H. «История болот Куршской косы и Замланда». В данной работе автор приводит относительно подробную спорово-пыльцевую диаграмму для Свиного болота и неполные спорово-пыльцевые диаграммы (т.е. те, в которых приведено очень мало пыльцевых спектров только для нескольких самых основных видов) для колонок, взятых в долине реки Преголя и в заливе, в районе посёлка Лесное.
В 1934 г. W. Benrath написал диссертацию «Исследования по спорово-пыльцевой статистике и микростратиграфии глин и торфов прибрежных районов Куршского залива с особым учётом методических вопросов». Для района исследования W. Benrath выбрал Schwendlunder Bucht, т.е. юго-западную часть Куршского залива в корне косы. Раньше в этом месте был пролив, который закрылся за счёт заторфовывания, но во время Литориновой трансгрессии эти участки был покрыты водой, поэтому на этой территории существуют подводные торфа.
Кроме того, Benrath делал работы на болотах по краю залива в добавления к работам других авторов, которые делали там исследования ранее, чтобы сравнить полученные данные (Свиное, Аугштумальское, Большое Моховое, Козье, Виттенбергское болото в Задней Померании и др.).
В работе Benrath даны не все спорово-пыльцевые диаграммы, а только для некоторых участков. Приведена диаграмма для Большого Мохового болота, взятая из более ранних литературных источников, но не с самой глубокой части болота (до 7 м) и только с основными пыльцевыми спектрами для наиболее распространённых видов. По Козьему болоту – диаграмма на участке от 4,5 до 5,4 м, диаграмма по Переславскому болоту и спорово-пыльцевая диаграмма колонки, отобранной в корне Куршской косы.
Таким образом, к 40-м гг. прошлого столетия благодаря интенсивным исследованиям немецких учёных был накоплен значительный материал по флоре и растительности болот Восточной Пруссии, а для отдельных болотных экосистем сделано картирование. Тем не менее, в работах, посвящённых изучению болот Восточной Пруссии, преобладал ботанический аспект. Лишь на отдельных болотах проводилось изучение торфяной залежи, включая анализ спорово-пыльцевых спектров (Gams, Ruoff, 1929; Gams, 1932; Benrath, 1934).
Послевоенный период (с 1945 г. по настоящее время). В послевоенный период работы по реконструкции голоценовой растительности и развитию палеоэкологических обстановок на территории Калининградской области стали появляться с начала 1970-х годов.
В 1970 г. вышла работа Р. Кунскаса «По поводу развития залива Куршю-Марес, дельты реки Нямунас и прибрежных болот». В этой статье есть упоминания о том, что в дельте реки Неман было заложено более 50 разрезов, датированных спорово-пыльцевым методом, что позволило описать ход развития этой территории, но, к сожалению, самих спорово-пыльцевых диаграмм не приводится.
Отдельные данные по палинологии опубликованы в работах Н.Н. Лазаревой (Лазарева, 1994; Виштынецкое ..., 1999). В этих работах приводятся результаты спорово-пыльцевого анализа нескольких поверхностных горизонтов (до 100 см) с дельты Немана и Виштынецкой возвышенности.
Нижненеманская низменность и исследуемые болотные экосистемы
Нивелирование поверхности проводилось с помощью нивелира модели Н-10 через каждые 50 метров по методике, описанной в работе Ц.И. Минкиной (1939).
Зондирование проводилось через каждые 50 метров, но наиболее интересные участки зондировались каждые 20 метров, например, сосновые островки. После этого выбирались точки для бурения торфяной залежи и отбора проб.
Зондировка и отбор проб проводились торфяным буром геологическим (модель ТБГ-66). Бурение осуществлялось по методике Ц.И. Минкиной (1939). Большинство проб в бурильной колонке отбиралось через каждые 10 см, за исключением мест, представлявших особый интерес, где пробы брались через 5 сантиметров.
Обработка 778 торфяных проб и анализ растительных макроостатков в этих пробах проводились в лаборатории геоэкологии Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
Для каждой пробы была определена степень разложения, с помощью микроскопического метода и метода промывки (Пьявченко, 1963). После промыва каждой пробы проводился микроскопический анализ на ботанический состав торфа, а также выявлялись возможные следы пожара в торфе, и подсчитывался процент сгоревших растений.
Степень разложения торфа характеризуется процентным содержанием в нём бесструктурной части, включающей гуминовые вещества и мелкие частицы негумифицированных остатков растений. Сущность метода заключается в определении относительной площади, занятой бесструктурной частью при рассмотрении тонкого разжиженного слоя торфа под микроскопом. При этом за 100% принималась площадь, занятая бесструктурной частью и растительными остатками. Площадь, занятая бесструктурной частью, выражалась в процентах и принималась за показатель степени разложения. Ткани, сохранившие клеточную структуру, принимались за растительные остатки.
Сущность метода определения ботанического состава заключается в определении под микроскопом количественного соотношения в процентах остатков растений-торфообразователей, слагающих растительное волокно в пробе, освобожденной от гумуса. Для освобождения от гумусных частиц порция торфа промывалась через сито диаметром 100-250 мм с сеткой № 025К. По ботаническому составу определялись тип, группа и вид торфа.
При определении остатков растений в торфах использовался ряд определителей (Короткина, 1939; Матюшенко, 1939 а, б; Домбровская и др., 1959; Кац и др., 1977).
Латинские названия сосудистых растений даны в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995), названия листостебельных мохообразных даны, согласно аннотированному списку М.С. Игнатова и О.М. Афониной (1992).
Палинологический или спорово-пыльцевой анализ – один из методов палеоботанических исследований, который применяется для реконструкции растительного покрова и климата прошлых эпох. Объектами палинологического анализа являются палиноморфы. В первую очередь это пыльца покрытосеменных и голосеменных растений, а также споры растений и грибов, растительные устьица, остатки клеток водорослей, микроскопические остатки животных (например, яйца тихоходок) и т.д.
Растения очень чутко реагируют на любое изменение природной среды. Одни виды начинают испытывать угнетение и даже исчезают за сравнительно короткий срок, другие приходят им на смену. Образуются новые растительные группировки. Пыльца и споры тех и других сохраняются в залежи и свидетельствуют о минувших событиях. Поэтому строго последовательное изучение спорово-пыльцевых комплексов может дать подробную картину развития растительности интересующего нас района, а также окружающего его ландшафта и климата за достаточно длительный промежуток времени.
Спорово-пыльцевой анализ 176 проб отобранных из 4 колонок (верховое болото Целау, Большое моховое, Подлиповский торфяник, озеро Малое Оленье) осуществлялся в Экологическом центре Университета Кристиана Альбрехта, г. Киль, Германия; в Университете Грайфсвальда, Германия; в Государственном институте геологии Польской академии наук в отделе морской геологии, г. Гданьск, Польша; в лаборатории геоэкологии Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Пробы для спорово-пыльцевого анализа отбирались через каждые 5 см.
Обработка проб для приготовления препаратов пыльцы и спор осуществлялась по методу Фэгри-Иверсена (Faegri, Iversen, 1989) и состояла из нескольких этапов: 1. Из каждого исследуемого горизонта был взят 1 см3 пробы. 2. Для проверки образцов на карбонатность в пробы добавляли соляную кислоту (10%-HCl). 3. Затем пробы двое суток выдерживались в плавиковой кислоте (38%-HF) для растворения силикатов. 4. Далее варились в щёлочи (10%-КОН) с целью растворения гуминовых кислот, диспергирования пробы и окраски пыльцевых зерен. 5. Пробы несколько раз промывались дистиллированной водой, и центрифугировалась. 6. Затем доливали ледяную уксусную кислоту. 7. Далее готовили смесь для ацетолиза, в которой нагревали пробу на водяной бане для разрушения сохранившихся растительных (целлюлозных) остатков. 8. После всего проделанного добавляли глицерин и готовили препараты для просмотра. Препараты просматривались под микроскопом Микромед-3 при увеличении в 400 раз (рис. 4). При определении пыльцы и спор использовались определители (Gttlich, 1990; Faegri, Iversen, 1993; Beug, 2004; Дзюба, 2005; Куприянова, 1965; Куприянова, Алёшина, 1972, 1978), а также справочные пособия для курса палинологии экологического центра Кильского университета (Nelle, 2006).
Особенности формирования болот Нижнинеманской низменности
Дельтовая низменность реки Немана является сложной сросшейся дельтой нескольких рек, впадающих в Куршский залив, главной из которых является река Неман с системой его рукавов (Калининградская ..., 1969). Устье реки после отступления ледника неоднократно меняло свое местоположение. Это связано с изменением тектонического режима территории – поднятие сменилось опусканием, в результате эрозионная деятельность сменилась аккумулятивной. Некоторые из рукавов реки стали самостоятельными водотоками, а другие превращены в осушительные каналы.
Четвертичные отложения покрывают территорию дельтовой низменности сплошным чехлом. Представлены они ледниковыми, водноледниковыми, межледниковыми отложениями. По долинам рек узкими полосами (от 0,5 до 4,5 км) отмечаются современные аллювиальные отложения и участки болотных отложений. Важнейшей неотектонической особенностью исследуемой территории является то, что она испытывает постоянные погружения с амплитудой до 3 см в 100 лет (3 мм в год).
Рельеф низменности представляет собой плоскую полого наклонённую на северо-запад равнину. Абсолютные высоты до 5-6 м. Некоторые участки находятся ниже уровня моря, и уровень грунтовых вод здесь регулируется с помощью дамб и насосных станций. Площади польдерных земель в дельтовой низменности весьма значительны. Иногда на поверхность выходят более древние моренные холмы – остатки размытой моренной равнины. Таких моренных выступов на территории насчитывается около 40.
В климатическом отношении дельта Немана отличается от других районов Калининградской области. Основными особенностями являются небольшая суммарная радиация (87 ккал/см2 в год), большие контрасты в затратах тепла на процессы испарения, господство бризовой циркуляции в ветровом режиме, большое количество осадков в течение всего года в сочетании с низкой температурой и высокой относительной влажностью. В течение года выпадает в среднем 873 мм осадков – это наибольшее в Калининградской области значение количества осадков.
Основным типом растительности Нижненеманской низменности являются черноольшаники и болота. В северной части дельты на выходах песков расположены сосняки-черничники, на выходах моренных отложений – хвойно-широколиственные леса, в прирусловой части – заросли ивняка. Естественная растительность района дельты Немана сильно изменена в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. Большая часть дельтовой низменности в связи с плодородием почв занята сельхозугодьями на осушенных участках: полями, сеяными лугами и пастбищами. До войны здесь размещались высокопродуктивные сенокосы. Многие пастбища сильно деградировали в результате перевыпаса крупного рогатого скота (Галанин, 1991, 2005; Схема ..., 2004).
В качестве объектов исследования в пределах Нижненеманской низменности были выбраны два одних из самых крупных верховых болота области – Большое Моховое и Козье болото (рис. 1).
Большое Моховое болото расположено в северо-западной части Калининградской области, в Славском районе, в 8 км к востоку от побережья Куршского залива, на Нижненеманской низменности (рис. 1).
Большое Моховое болото является одним из крупнейших в Калининградской области болотным комплексом верхового типа, площадью около 5000 га. Это очень слабо выпуклый верховой массив. Центральная часть болота занята ровным плоским плато. Краевой склон довольно узкий. В центральной части болота имеются крупные грядово-мочажинные и озерковый комплекс, состоящий из нескольких десятков озёр, различных размеров от 8 м2 до 80 м2 (рис. 8).
Растительность плато представлена вересково-пухоносными и вересково-пушицевыми сообществами. В покрове кочек преобладают сфагновые мхи Sphagnum magellanicum, S. rubellum, Baeothryon cespitosum, Eriophorum vaginatum, Andromeda polifolia во влажных мочажинах – S. cuspidatum, S. balticum и S. tenellum, Drosera anglica, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, а также ряд видов лишайников из рода Cladonia. Часто встречаются небольшие облесённые участки – болотные сосняки, где обильны Ledum palustre, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Rubus chamaemorus.
Краевой склон занят вересково-очеретниковым мочажинным комплексом (ассоциации вересковых кочек и «жёлтых» мочажин), где вересковые кочки чередуются с очеретниковыми мочажинами, в которых помимо основного доминанта – Rhynchospora alba – встречаются Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia; моховой ковёр образован Sphagnum tenellum и Sph. cuspidatum.
По краю болота (как и в некоторых наиболее сухих местах в центральной) части произрастают сосняки багульниковые – т.н. «лесное кольцо» (где встречается также Betula pubescens). В их нижнем ярусе произрастает Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vitis-idaea. В канавах по периферии болота произрастает Comarum palustre, Calla palustris. Болото окружено сильно заболоченными чёрноольшаниками.
Верховое Болото Козье расположено в северной части дельтовой низменности, на водоразделе рек Неман, Северная и Дальняя, и является одним из крупнейших болотных комплексов верхового типа.
Болото Козье представляет собой единый, очень слабо выпуклый верховой массив площадью около 1400 га (рис. 9). Основная часть болота занята ровным плоским плато. Краевой склон довольно узкий. Зона лага (обводненная зона стока по краю болота) отсутствует, т.к. болото Козье окружено канавой, куда осуществляется водосток. В северной части болота находится участок, на котором в прошлом осуществлялась добыча торфа, в настоящее время он осушен.
Грядово-мочажинных и крупных озерковых комплексов на болоте Козьем нет, встречается лишь несколько очень маленьких по площади озерков.
Довольно уникальными сообществами верхового болота Козьего являются травяно-сфагновые фитоценозы, расположенные в северной его части. Вместо обычных на верховых болотах кустарничков семейства вересковых здесь в верхнем ярусе господствуют травянистые растения из семейства осоковых.
Растительность плато болота Козьего представлена вересково-пухоносными ассоциациями. Особенность их в том, что наряду с вереском (основным доминантом сообществ плато на других верховых болотах области) важную роль здесь играет пухонос дернистый. В моховом покрове преобладают сфагновые мхи (Sphagnum magellanicum, Sph. rubellum, Sph. tenellum), а также ряд видов лишайников из рода Cladonia.
Краевой склон занят вересково-очеретниковым мочажинным комплексом (ассоциации вересковых кочек и «жёлтых» мочажин). Данные фитоценозы широко распространены на других верховых болотах области и имеют сходное строение: вересковые кочки чередуются с очеретниковыми мочажинами, в которых помимо основного доминанта – очеретника белого (Rhynchospora alba) – встречаются подбел (Andromeda polifolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris), росянки (Drosera); моховой ковёр образован Sphagnum tenellum и Sph. cuspidatum.
По краю болота, а также в некоторых наиболее сухих местах в центральной части произрастают сосняки багульниковые. На северо-восточной окраине болота Козьего расположен участок с евтрофной травянистой растительностью низинного болота. Верхний ярус этого сообщества составляют типичные травы низинных болот: Equisetum fluviatile (хвощ приречный), Lysimachia vulgaris (вербейник обыкновенный), Lythrum salicaria (дербенник иволистный), Iris pseudacorus (ирис болотный), Comarum palustre (сабельник болотный) и др. Среди травянистой растительности рассеяна невысокая поросль ольхи серой (Alnus glutinosa) и ивы ушастой (Salix aurita).
Формирование растительного покрова Нижненеманской низменности в голоцене
Низинный тип торфа. Низинные виды торфа формируются в условиях богатого минерального питания. На болоте Целау данный тип торфа представлен тремя видами (тростниковый, осоково-тростниковый, древесно-тростниковый), во всех них доминирующим растением является тростник обыкновенный (Phragmites australis).
Тростниковый торф. Формируется в биогеоценозах тростникового типа (займищах). На Целау этот вид торфа отмечен в виде тонкой прослойки (10-50 см) в самых нижних частях залежи, соответствующих понижению дна болота в южной его половине. Степень разложения значительна (50-90%). Образцы составлены на 80-95% остатками различных частей тростника, однако, в чистом виде данный торф почти не встречался, в пробах с Целау почти всегда содержались остатки древесины и коры деревьев (берёзы, ольхи, реже сосны), а также кусочки корешков и корневищ осок.
Осоково-тростниковый торф. Формируется в болотных травяных биогеоценозах с преобладанием тростниковых и осоковых сообществ. В залежи Целау осоково-тростниковые торфа залегают в северной и северо-восточной его частях в придонном слое мощностью 40-50 см. Кроме того, прослойка осоково-тростникового торфа выявлена в виде небольшой линзы на глубине 2,5-2,8 м среди сфагновых торфов.
Основу торфа образуют остатки корневищ тростника (в среднем 60-70%), доля корешков осок (в основном Carex rostrata и C. lasiocarpa) составляет 20-25%. В незначительном количестве, но во всех образцах содержались остатки древесины и коры деревьев: берёзы (Betula pendula), ольхи (Alnus glutinosa) и сосны (Pinus sylvestris). В большинстве проб присутствовали также остатки травянистых растений низинных болот, а в некоторых также листья сфагновых мхов.
Древесно-тростниковый торф. Формируется в древесно-тростниковых биогеоценозах. Встречен только в одной колонке из юго-восточной части болота Целау в виде тонкой прослойки (около 20 см), подстилаемой более мощным слоем тростникового торфа. Среди растительных включений основу составляют остатки тростника (до 70%), но заметно участие древесных видов (20-25%) – сосны и берёзы. Присутствуют корневищные осоки (Carex rostrata). Последние два вида торфа можно рассматривать как начало становления переходного болота на окраинных частях развивавшегося болотного массива.
Выделенные из придонных частей торфяной залежи Целау низинные торфа с высокой степенью разложения и участием остатков деревьев в разном количественном соотношении немецкие авторы (Steinecke, 1927, 1929; Gams, Ruoff, 1929) объединяют под термином «Bruchwaldtorf», подчёркивая тем самым лесной характер первичных торфообразующих фитоценозов Целау. С этим не вполне можно согласиться. Как и в немецких работах, в наших пробах из придонных слоёв древесные остатки встречаются почти во всех образцах низинных торфов, но везде в небольших количествах (обычно до 10%), являясь примесью к тростниковому или осоковому торфу. На наш взгляд, это может свидетельствовать о быстром выпадении древостоя из состава первых болотных сообществ, что не позволило накопиться значительным количествам древесного (ольхового или берёзового) торфа, столь характерного для ряда других торфяников региона.
Несомненно, что изначально территория болотной впадины Целау была покрыта лесными сообществами (широколиственными и черноольшаниками, в зависимости от гидрологических условий), но после начала застаивания воды и запуска болотообразовательного процесса данные сообщества приобрели смешанный древесно-травяной характер, образовав ольшаники и влажные березняки с тростником (такой переход и сейчас наблюдается на окраинных участках Целау), последние довольно быстро сменялись тростниковыми или осоково-тростниковыми займищами, которые и стали первыми собственно болотными, торфообразующими фитоценозами формирующегося болота, дав начало первым слоям низинного торфа.
Переходный тип торфа. Переходные торфа встречаются на Целау отдельными прожилками разной мощности непосредственно над слоями низинных торфов. По ботаническому составу выделены 3 вида торфа (пушицево-сфагновый, сосново-сфагновый, сфагновый переходный). Пушицево-сфагновый торф. В виде узкой прослойки (20-30 см) залегает над придонным слоем тростникового торфа в наиболее глубокой, южной части залежи. Основными компонентами растительного волокна являются пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и сфагновые мхи, главным образом, Sphagnum magellanicum. Среди остатков также присутствует кора и древесина берёзы. Степень разложения 30-40%.
Сосново-сфагновый торф. Отмечен в северной окраинной, части залежи в виде вреза в сфагновые торфа на глубине 1,6-2,1 м, почти у самого дна массива. По-видимому, отложен только на северной окраине, в зоне распространения сосновых сообществ облесённого краевого склона. Составлен на 60-70% остатками сфагнов (Sphagnum magellanicum и S. angustifolium) и сосны (20-25%), также заметна примесь пушицы (5-20%). Степень разложения 35-40%.
Сфагновый переходный торф. В отличие от переходных торфов двух предыдущих видов слагает значительные по протяжённости слои мощностью от 15 до 50 см. Составлен в основном остатками Sphagnum magellanicum с примесью тростника (10-15%), что отражает характер торфообразующих фитоценозов, являвшихся, вероятно, наступавшими на окраины развивавшегося болотного массива сфагновыми дернинами. Выше остатки тростника постепенно исчезают, и торфа становятся уже чисто верховыми сфагновыми.
Верховой тип торфа. Верховые торфа болота Целау представлены моховой и травяно-моховой группами. Именно эти виды торфа в основном и слагают торфяную залежь Целау. Каждый из видов торфа представлен мощным слоем (один метр и более), имеющим почти сплошное простирание через всё болото.
Г. Гамс и З.Ф. Руофф не различали в сфагновой части торфяной залежи Целау отдельных видов торфа, но разделяли её на две половины: нижнюю со средней степень разложения и верхнюю слаборазложенную (Gams, Ruoff, 1929). Наши данные также показывают различие в степени разложения верхних и нижних слоёв сфагнового торфа, но почти во всех извлечённых кернах убывание степени разложения происходит постепенно, поэтому выделить зону контакта между двумя половинами, как это сделано у Г. Гамса и З.Ф. Руофф, не представлялось возможным.
Кроме того, нами отмечены несколько случаев, когда степень разложения сфагновых торфов по направлению кверху внезапно возрастала, давая небольшие по мощности прослойки сильно разложенного верхового, переходного или даже низинного торфа.
На наш взгляд, резкого отличия в свойствах между ниже- и вышележащими слоями сфагнового торфа нет, в связи с чем важно учитывать именно ботанический состав отложенных торфов, который более объективно раскрывает характер развития верховой части залежи.
Моховая группа на Целау представлена: magellanicum-, rubellum-fuscum-, angustifolium- и комплексным сфагновым торфами.
Magellanicum-торф. Растительное волокно этого вида торфа до 60-100% состоит из остатков Sphagnum magellanicum с примесью других сфагнов, в основном S. angustifolium, S. fuscum и S. rubellum, реже встречаются остатки мочажинных видов сфагновых мхов: S. balticum, S. cuspidatum. Из травянистых остатков обычна пушица и кустарнички (Calluna vulgaris, Andromeda polifolia), а также сосна.
Данный вид торфа участвует в сложении торфяных залежей почти во всех ботанико-географических зонах Европы и Западной Сибири (Лисс и др., 2001). Он образуется в различных болотных сообществах, в моховом ярусе которых доминантом является Sphagnum magellanicum. В условиях Балтийского региона данный вид приурочен, как правило, к повышениям микрорельефа, предпочитая средний уровень и основания кочек; на высоких кочках и грядах он сменяется уже S. fuscum и S. rubellum.