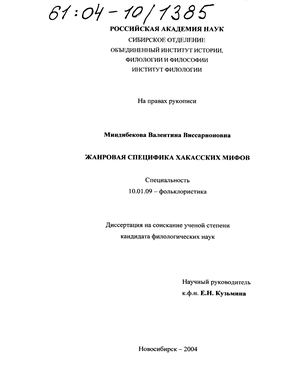Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. История собирания, публикации и изучения несказочной прозы хакасов 11
1.1. Сбор образцов устного народного творчества хакасов в XVIII веке 12
1.2. Сбор и публикация материалов в XIX веке 14
1.3. Сбор, публикация и изучение мифов, легенд и преданий хакасов в XX в 21
ГЛАВА II. Жанровая характеристика мифов 28
2.1. Терминологический аппарат хакасской несказочной прозы. 29
2.1.1. Система народной терминологии 29
2.1.2. Система научной терминологии 31
2.2. Внутрижанровые особенности несказочной прозы хакасов .. 32
2.3. Мифы. Определение жанра 36
2.4. Классификация хакасских мифов 41
2.5. Система персонажей хакасской мифологии 45
2.5.1. Мифологическая модель мира 45
2.5.2. Персонажи хакасского пантеона 52
2.5.3. Персонажи Среднего мира 57
2.5.4. Персонажи Нижнего мира 64
ГЛАВА III. Сюжетно-тематический состав мифов 71
3.1. Мифы о животных и птицах 72
3.1.1. Мифы о животных 73
3.1.2. Мифы о птицах 78
3.1.3. Мифы о рыбах и пресмыкающихся 83
3.2. Мифы о духах-хозяевах стихий 85
3.2.1. Мифы о духах-хозяевах гор 87
3.2.2. Мифы о духах-хозяевах воды 96
3.2.3. Мифы о духе огня 105
3.3. Космогонические мифы 112
3.3.1. Мифы о сотворении земли 113
3.3.2. Мифы о сотворении человека 120
3.3.3. Мифы о небесных светилах 125
3.3.4. Мифы о происхождении огня 132
3.3.5. Мифы о потопе 134
3.4. Топонимические мифы 140
3.4.1. Мифы о горах 142
3.4.2. Мифы о реках и озерах 143
Заключение 149
Список литературы 157
Список архивных источников 170
Список информаторов 173
Список сокращений 176
Приложение 178
- Сбор и публикация материалов в XIX веке
- Внутрижанровые особенности несказочной прозы хакасов
- Персонажи хакасского пантеона
- Мифы о духах-хозяевах гор
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Настоящая диссертация посвящена исследованию хакасской мифологии, которая является составной частью общетюркской мифологии и представляет собой самобытный феномен. В мифологических системах народов мира она занимает свое конкретное место, что позволяет рассматривать ее в контексте мировой культуры. Несмотря на фрагментарность сообщений рунических памятников, в трудах Л.П. Потапова, СМ. Абрамзона, С.Г. Кляшторного, СЮ. Неклюдова и И.В. Стеблевой засвидетельствовано существование сложной и развитой мифологии древнетюркских племен. Являясь великим культурным наследием человечества, мифология вызывает в наши дни все более возрастающий интерес.
Однако, мифология тюркоязычных народов Сибири все еще недостаточно изученная область отечественной фольклористики. Многое остается не выясненным и спорным, требующим дополнительного изучения. До настоящего времени в хакасской фольклористике не разработана теоретическая база национальной мифологии, что, безусловно, крайне необходимо для углубленного ее исследования. Нет также и специальных работ, посвященных проблемам жанров несказочной прозы хакасов. Среди публикаций, близких теме нашего исследования, можно отметить книгу хакасских ученых М.А. Унгвицкой и В.Е. Майногашевой «Хакасское народное поэтическое творчество» [1972], представляющую первый опыт исследования жанров хакасского фольклора. Отдельным сюжетам хакасских мифов посвящены статьи и работы Л.В. Анжигановой [1997], М.И. Боргоякова [1976; 1984], В.Я. Бутанаева [1976; 1996] В.Е. Майногашевой [1982], Н.Н. Сагоякова [1989], П.А. Троякова [1969; 1970; 1995], М.А. Унгвицкой [1953; 1955]. Но в целом хакасская мифология до сих пор не подвергалась специальному изучению.
Исследование архаичного пласта фольклора хакасов имеет важное научное значение по целому ряду причин. Мифология открывает возможности для раскрытия особенностей мировидения далеких предков, понимания и оценки ими своей жизни и деятельности. В мифах содержатся истоки духовной культуры и художественного творчества народа, предопределяющие особенности генезиса и поэтики фольклорных жанров, их дальнейшую эволюцию. Тематика мифов тесно сопряжена и с вопросами мировоззренческого характера. В мифах отражены многовековые напластования, вобравшие в себя многие верования, господствовавшие в разные эпохи. В них содержатся бесценные сведения о своеобразии художественного мышления древности. Кроме того, мифы, являясь архаическим жанром, в наибольшей степени исчезающий пласт устно-поэтического творчества хакасов.
Мифы, легенды и предания относятся к жанрам повествовательного фольклора, которые в фольклористике условно называют произведениями несказочной прозы. Такие повествования сравнительно мало собраны и почти не систематизированы. Поэтому интенсивный и повсеместный сбор произведений несказочной прозы, составление их картотеки, первичная классификация текстов и системный анализ - одна из первостепенных задач фольклористической науки.
Из всего сказанного следует, что научное осмысление мифов, включающее сбор и анализ материала, выдвигается в ряд наиболее актуальных проблем хакасской фольклористики.
Целью данного исследования является изучение жанровой специфики мифов, рассмотрение их сюжетно-тематического состава и места в ряду жанров несказочной прозы хакасов.
Для достижения данной цели необходимо решить конкретные задачи, направленные на:
выявление фонда хакасских мифов;
определение критериев разграничения несказочной прозы хакасов;
систематизацию и классификацию мифов;
изучение системы образов и их функций;
рассмотрение поэтико-стилевых особенностей мифов;
установление типологических и генетических параллелей сюжетов хакасской мифологии и мифологии народов Сибири.
Объектом исследования выступают хакасские мифы в системе мифологии и фольклора хакасов.
Предметом исследования являются мифологические сюжеты, мотивы и образный мир мифов.
Методологическая основа диссертации. В основу нашего исследования положен комплексный подход, включающий сравнительно-исторический, структурно-семантический, историко-типологический методы исследования.
Основные положения диссертационного исследования базируются также на научной концепции, разработанной Главной редколлегией серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Теоретической базой исследования послужили труды выдающихся отечественных ученых филологов-классиков и исследования современных специалистов по фольклористике, мифологии, религии: С.Н. Азбелева [1964], А.Н. Веселовского [1940], В.М. Гацака [1989; 1998], В.М.Жирмунского [1960], Б.П. Кербелите [2001], Н.А. Криничной [1988; 1991], А.Ф.Лосева [1957], Е.М. Мелетинского [1979], Э.В.Померанцевой [1975], В.Я. Проппа [1946; 1969], Б.Н.Путилова [1976], М.И. Стеблина-Каменского [1979], С.А.Токарева [1962; 1965], М.И. Шахновича [1971], О.М. Фрейденберг [1978].
Для нашего исследования были важны наблюдения и выводы ряда специалистов в области фольклора, истории и этнографии сибирских народов: Н.А.Алексеева [1980; 1984; 1992], Л.В. Анжигановой [1997], С.С. Бардахановой [1974; 1992], В.Я. Бутанаева [1976; 1996], Н.П. Дыренковой [1940], A.M. Сагалаева [1990; 1992], В.Е. Майногашевой
[1966; 1967; 1982], А.И. Уланова [1974], Н.О. Шаракшиновой [1959; 1968; 1975], Г.У. Эргиса [1974] и других авторов. В материалах этих исследователей выявляются типологические черты отдельных мифологических сюжетов народов Южной Сибири, обусловленные общими историко-генетическими корнями и контактными связями.
В диссертационном исследовании учитывались многие положения теории мифа, разработанной зарубежными исследователями XX века: Э. Кассирером [2002], Ф.Х. Кессиди [1966], Дж. Фрезером [1980], Л. Леви-Брюлем [1937], К. Леви-Строссом [1985; 1970], Э. Тэйлором [1939], М. Элиаде [2001].
Источниковая база исследования. Из дореволюционных публикаций привлечено фольклорное наследие Н.Ф. Катанова «Образцы народной литературы тюркских племен», изданное В.В. Радловым [1907]. Помимо опубликованных источников, в работу включены неопубликованные материалы, хранящиеся в рукописном фонде Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (г. Абакан), а также собственные полевые записи автора, собранные в период с 2000 по 2003 г. В июле 2001 г. диссертант принимал участие в Комплексной фольклорно-этнотрафической экспедиции Сектора фольклора народов Сибири Института филологии ОИИФФ СО РАН, проходившей в Орджоникидзевском и Ширинском районах Республики Хакасия, в ходе которой были записаны новые произведения несказочной прозы, использованные в данном исследовании.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она является первой в хакасской фольклористике работой, посвященной системному изучению жанровой специфики хакасских мифов. Впервые исследуются в историко-типологическом плане их сюжеты и мотивы, рассматриваются вопросы эволюции, трансформации и современного бытования.
Теоретическая и практическая значимость работы. Основные результаты данного исследования будут использованы диссертантом в ходе подготовки тома несказочной прозы хакасов в многотомной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Теоретические результаты и выводы работы могут быть полезны в подготовке научно-методических пособий для студентов-тюркологов. Некоторые положения исследования применимы для разработки курса «Хакасский фольклор» в высших и средних учебных заведениях, для написания учебников и учебно-методических пособий для гуманитарных факультетов вузов и школ Сибири. Материалы диссертации могут быть привлечены к сравнительно-сопоставительному анализу традиций устного творчества тюркоязычных народов.
Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Библиографии и Приложения.
Апробация диссертации. Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите на заседании сектора фольклора народов Сибири Института филологии ОИИФФ СО РАН. Материалы диссертации были изложены на лекционных и практических занятиях по дисциплине «Хакасское устное народное творчество» в Институте саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета в 2000-2001 учебном году.
Результаты исследования апробированы в докладах на XL международной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс: «Археология и этнография» (Новосибирск, 2001); XII научном семинаре Сибирского регионального вузовского центра по фольклору (Омск, 2003); межвузовской научно-практической конференции «60-летие кафедры хакасской филологии и подготовка национальных кадров» (Абакан, 2003). Основные положения диссертации изложены в сборниках научных статей, сообщениях и тезисах.
Публикации
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
Жанровая специфика хакасских космогонических мифов // Материалы XL Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: Археология и этнография / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. - С. 66-68. - (0,2 п.л.)
Жанровая специфика хакасских мифов // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск: Наука, 2002. № 4. - С. 57-60. - (0,5 п.л.)
К вопросу о классификации хакасских мифов // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. - Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2003. Выпуск VII. - С. 64-68. - (0,5 п.л.)
Мифологические персонажи хакасского фольклора // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова. -Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2003. Выпуск VII. - С. 68-73.-(0,5 п.л.)
Хакасские мифы о животных и птицах // Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая: научный сборник молодых исследователей. / Под ред. Тугужековой В.Н., Данькиной Н.А. - Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2003. Выпуск № 4. - С. 49-55. - (0,5 п.л.)
Структура хакасских мифов // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск: Наука, 2003. № 3. - С. 108-111. - (0,5 п.л.)
Система персонажей в хакасской мифологии // Народная культура Сибири: материалы XII научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору / Отв. ред. Т.Г. Леонова. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 70-73 - (0,2 п.л.)
Внутрижанровые особенности несказочной прозы хакасов // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. — Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2004 (В печати)
Хакасские мифы о духах-хозяевах стихий // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск: Наука, 2004 (В печати)
Сбор и публикация материалов в XIX веке
В первой половине XIX века стали появляться целенаправленные публикации фольклорных произведений. В работу по собиранию фольклора включились широкие общественные круги. Организованный характер этому процессу придал официальный государственный центр -созданное в 1845 г. в Петербурге Императорское Русское географическое общество (ИРГО). В нем было отделение этнографии, активно занимавшееся сбором фольклора в разных уголках России. Из филиалов ИРГО, от большого числа безымянных корреспондентов (сельских и городских учителей, врачей, студентов, духовенства и даже крестьян) поступали многочисленные записи устных произведений, составившие позже обширный архив Русского географического общества.
Впоследствии многое из этого архива было опубликовано в «Записках РГО по отделению этнографии», в центральных журналах «Этнографическое обозрение», «Живая старина» и др., а также в местных периодических изданиях («Губернские ведомости», «Епархиальные ведомости» и проч.).
Одним из членов Русского географического общества (с 1893 г.) был Н.А. Аристов. Он сотрудничал в вышеупомянутом журнале «Живая старина». В историю тюркологии Н.А. Аристов вошел своими трудами о тюркских племенах, и поныне не потерявших научного значения: «Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой орды и каракиргизов, на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований» [1895], «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности» [1897]. В исторических работах Н.А. Аристова приводились также тексты хакасских преданий и легенд [1890].
Особую значимость для изучения народов Сибири в этнографо-лингивистическом плане имели экспедиции известного финского лингвиста и этнографа М.А. Кастрена (1813-1852). Научные изыскания этого ученого приходятся на 1840-е гг. Языки и культуру народов Сибири он изучал в ходе научного путешествия в 1845-1849 гг. Им были обследованы почти весь Север и вся Сибирь, собран огромный материал. Его поездка к хакасам состоялась в 1847 году. Целью этой экспедиции явилось выявление генетических корней финнов и народов России путем сравнения этнолингвистических материалов. Он побывал в различных улусах абаканских татар, как тогда называли хакасские племена. Им были собраны ценные сведения по мифологии и фольклору хакасов. Впервые финский ученый отметил бытование героического эпоса у представителей рода койбал [1886]. Так, из произведений несказочной прозы он записал предание о Ханза-беге, дал толкование хакасским мифологическим персонажам Худай, Эрлик-хан, Айна. М.А. Кастрен использовал содержание некоторых легенд в своих изысканиях о финно-угорских элементах в языке хакасов [1837]. В путевых очерках, записях и письмах М.А. Кастрена содержатся географические названия, которые тщательно собирались им на всем протяжении научных исследований. В целом, его труды серьезно повлияли на изыскания следующих поколений ученых.
Фундаментальное изучение тюркских народов Сибири этого времени в первую очередь связано с именем выдающегося ученого, лингвиста и тюрколога В.В. Радлова (1837 - 1918). Его называют родоначальником новой эпохи в развитии отечественной и мировой тюркологии. Научные изыскания В.В. Радлова приходятся на вторую половину XIX века. В 1859-1871 гг. он изучал тюркские языки Алтая, в полевых условиях собирал материал по фольклору, этнографии и археологии тюркских народов Алтая и Западной Сибири. В.В. Радлов издал десять томов «Образцов народной литературы тюркских племен» [СПб., 1866 - 1907]. В своих трудах ученый рассматривает богатое фольклорное наследие тюркских народов. На основе фольклорного материала ученый делает сравнительный анализ фольклорных образцов. Следует отметить, что фольклорно-собирательскую деятельность В.В. Радлов начал в связи с лингвистическими интересами. Однако, работа, проделанная им в области собирания и изучения хакасского эпоса, представляет собой большой научный вклад в фольклористику, не потерявший своего значения и в настоящее время.
Богатейшие фольклорные материалы, собранные в результате его поездки по Хакасии в 1863 году, опубликованы В.В. Радловым в классическом труде «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи» [1868]. Два тома этого издания занимает хакасский фольклор, представленный множеством мифов и легенд, текстами культовой поэзии и т.д., собранных во время многократных экспедиций. Опубликованные образцы отличаются полнотой записи и точностью. В.В. Радлов, изучая язык и фольклор хакасов, высказывает свои соображения как в плане отражения в них исторического прошлого хакасов, так и общих явлений в жизни тюркских племен. Фольклорные записи приводятся им в подлиннике - на хакасском Большое значение в фольклористической науке имеют труды исследователя фольклора тюркских и монгольских племен Г.Н. Потанина. Он сделал много ценного в области собирания, изучения и публикации устно-поэтического творчества народов Сибири. В его 4-х томном издании «Очерки Северо-Западной Монголии» имеются тексты мифов, легенд и преданий хакасов [1883]. В изданиях, осуществленных Г.Н. Потаниным, имеются публикации ученых, так или иначе интересовавшихся фольклором хакасов. Есть среди них материалы по традиционным религиозным представлениям хакасов, собранные И.И. Карагановым. Он записал предания о древних людях, которые добровольно погребли себя, когда шаман предсказал им скорое завоевание их белым царем; об озере Баланкуль (Пуланныг кол) и о «каменных истуканах» как об окаменевших людях [1884].
Писатель В. Титов записал и опубликовал несколько хакасских сказаний с комментариями, носящими характер толкования содержания этих произведений в духе исторических и культурологических исследований того времени [1855]. Он останавливается на нравоучительном и воспитательном значении сказаний, впервые ставит вопрос о роли сказителя в эпическом творчестве хакасов. В его публикациях встречаются тексты топонимических преданий [1858].
Внутрижанровые особенности несказочной прозы хакасов
Анализ научной терминологии подводит к вопросам жанрового деления несказочной прозы хакасов. Размытость ее жанровых границ приводит к внутрижанровому взаимопроникновению мифов, легенд и преданий. В хакасской фольклористике научная разработка данного вопроса только начинается.
Наиболее сложным в фольклористической науке является разграничение жанров несказочной прозы, так как они постоянно взаимодействуют и легко перенимают друг у друга отдельные мотивы и сюжеты. При определении границ жанров несказочной прозы хакасов, выявлении их особенностей и функциональной направленности будем исходить из положения В.Я. Проппа о том, что: «Специфика жанра состоит в том, какая действительность изображена, какова оценка ее, каково отношение к ней и как это отношение выражено» [1976; с. 36].
Приступая к исследованию мифов и их места в системе несказочной прозы, необходимо определить, что мы будем понимать под понятием «несказочная проза». В хакасской фольклористике, как и в отечественной, к несказочной прозе относятся мифы, легенды, предания. Жанры несказочной прозы хакасов имеют свои особенности, сложившиеся в результате их эволюционного развития и длительного бытования. Исходя из того, что каждая группа фактов и событий, явлений природы и окружающего мира по их значимости, а также в соответствии с периодически изменяющейся этносоциальной средой отливалась в нужную форму рассказа, формулируются в нашем случае и критерии разграничения разновидностей хакасской несказочной прозы.
Их объединяет общая установка на достоверность излагаемого события. Близка между собой и их художественная структура. В первую очередь это приемы повествования, обусловленные их основной установкой на достоверность. К ним относятся доказательства для подтверждения их достоверности: ссылки на старых людей, на общеизвестность, указания на различные реалии и т.д. В них отсутствуют специальные зачины и концовки, какие имеются в сказках, хотя встречаются иногда концовки, обобщающие смысл рассказа; за редким случаем, они одноэпизодны; в них отсутствуют традиционные формулы, общие места; они предрасположены к импровизации; им свойственна свободная композиция. Эти произведения тяготеют к местному приурочению, точной локализации.
К преданиям мы относим те произведения несказочной прозы хакасов, которые выделяются большей сопричастностью их содержания с историческим событием прошлого. М.А. Унгвицкая в работе «Хакасское народное поэтическое творчество» приводит следующую классификацию хакасских преданий: «Исторические предания (кип-чоохи) не однородны. Они подразделяются на два вида: героико-исторические предания (как стихотворные, так и прозаические); короткие исторические предания (почти всегда прозаические). В народе они не различаются. Как те, так и другие носят наименование кип-чоох, т.е. предание» [1972; с. 144-145]. Несмотря на мифологизацию некоторых подробностей, в преданиях довольно отчетливо выражена установка на достоверность и определенная общественная направленность. В них отчетливо просматриваются контуры исторических событий и более четко проявляется их общественная направленность. Народ в них осмысливал давние события жизни этносоциальной среды в определенной исторической ретроспекции, выражал свое отношение к ним, передавал мысли о своей земле, о родине и т.д. «Предания представляют собой фольклорные тексты с установкой на достоверность и с факультативным (в отличие от легенды) присутствием элемента чудесного, тексты несакрального и несказочного характера» [Мифы народов мира, т. 1; с. 332]
Сюжетно-тематический состав ранних преданий включает повествования о сопротивлении народа захватчикам, о сокрушении стойбищ врагами, об угоне людей и побегах из неволи, о новом сплочении народа вокруг мужественных лидеров. Одни из них завершаются описанием гибели борцов в жестоких схватках, в других - одержанной победой над врагами. При самых различных сюжетах преданий, иногда в их содержание вклиниваются мотивы состязания богатырей. Примером может служить широко распространенное среди всех хакасских племен предание «Очей пиг», названное по имени местного хана. Это объемное произведение несказочной прозы хакасов дает широкую картину быта и социальных отношений. Становление преданий, с точки зрения историзма, изначально было связано с изображением реальных событий и лиц. В них совершенно отчетливо показаны историко-географические реалии.
Главными жанровыми признаками предания можно считать: 1) реалистичность, 2) внешнюю форму прроявления эпической позиции, 3) хроникат, 4) признак сравнительно давнего времени, 5) открытую форму сюжетного оформления.
Если обобщить отличительные особенности жанров несказочной прозы, главное их различие, как нам представляется, заключается в том, что миф выражается и в слове, и в действиях, тесно связан с религией, а легенда, предание - это жанры словесности с разной степенью сочетания элементов реалистического и чудесного.
Миф и легенда, объединяясь по признаку уверенности носителей в достоверности сообщаемого и наличия элемента «чудесного», могут противопоставляться по наличию и отсутствию связи с культом, по изображенным персонажам и по времени. Легенда, являясь генетически зависимой от мифа, по сравнению с ним менее сакральна, в ней описываются события более поздние, нежели в мифе, приуроченные к историческому времени. Герои мифа - в основном сверхъестественные, мифические, иногда и трансформированные существа, а герои легенды - в разных условиях различные, иногда святые или мифологические персонажи, но не отличающиеся обликом от носителей традиции, иногда это реальные люди.
В преданиях время, место и действующие лица более конкретны. Действие преданий происходит только в историческое время, и действуют в них, прежде всего, исторические лица.
Персонажи хакасского пантеона
Великое небо (Хан-Тигір) — самое почитаемое божество хакасов. Известно, что во времена древнехакасского каганата устраивались грандиозные моления Небу, которые собирали представителей всех родов. Обряд жертвоприношения Небу у бельтиров был описан в статье С.Д. Майнагашева [1916; с. 95-98]. Это божество не носит антропоморфного характера. Такое поклонение небу в Центральной Азии известно издревле. В средневековых эпитафиях, высеченных на камнях, встречаются прямые обращения к Небу: «Тенгри!»; в них утверждается: «Небо так соизволило», «Небо мое (божество) - крыша нам!». «Небо дает «божественное государство», народу - Великого кагана, личную свободу и судьбу - каждому человеку» [Малов С.Е., 1952; ее. 62, 66, 99].
Творцом и создателем мира, олицетворением доброго начала является Худай. Вначале Он создал птиц, затем людей из красной глины и грязи, после чего вдохнул в них душу. В дальнейшем его функциональная роль разрабатывается подробнее. Вместе с другими божествами, он распоряжается всем происходящим в мире и, прежде всего, предопределяет судьбы людей. Виновного человека иногда сжимает двумя горами, наказывая его. Он преследует дьявола громовой стрелой или молнией, поэтому тот прячется за деревья, иногда становится позади скота или людей, поэтому их убивает огненоносная громовая стрела.
Мифологические сведения о богах, их иерархии фрагментарны. В этом мире живут семь или девять главных божеств - Чаянов, олицетворяющих собой доброе начало. Согласно мифам, добрые боги живут в юртах с золотой коновязью. Все убранство этой юрты, все предметы быта (стол, кровати, посуда и прочее) тоже золотые. «Ибінін алнында am палгачан алтын сарчын турадыр» - «Перед домом (его) стоит золотая коновязь» [Катанов Н.Ф., 1907; с. 382. Перевод уточнен нами].
Приведем отрывки из текста: «Ибде читі, етпаза тогыс кудай козана кистінде одырчадыр» — «В юрте семь или девять божеств за занавеской сидят» [Катанов Н.Ф., 1907; с. 245. Перевод уточнен нами]. «Кудашар пос-алнында улуг «кізі тынын паскан пічік» тутчадырлар. Пу пічікке олар тореен, олген кізіні кирчадырлар, кізі чорыгын хоныгын пазып» — «Худай держат перед собой большую книгу с записью душ человеческих. В эту книгу они родившихся и умерших людей вносят, записывая странствование и жизнь человека [Катанов Н.Ф., 1907; с. 245. Перевод наш]. «Кудашар, кізі чорыгын пасха ит полбаза, чахсы парлыг поладырлар» - «Боги, не будучи в состоянии изменить человеческие жизни, становятся милостивыми» [Катанов Н.Ф., 1907; с. 246. Перевод наш]. Эти божества изображаются живущими на облаках. Как пишет Н.А.Алексеев, «...на видимых облаках, будто бы живут духи, покровительствующие отдельным родам людей или видам животных. Живут эти духи, как и хакасы, в селениях (небесных)» [1992; с. 106].
Согласно мифам, божества знакомят людей со своей волей двумя способами: 1. Чаще всего они посылают грамоты, письма «величиной с потник». Это говорит о широком распространении письменности среди древних хакасов; 2. К людям, оказавшимся в безвыходной ситуации, приходит «старик в худом платье» — «Кізілерге, оларнын киректері туйух пол парза, чабал кеп кискен апсак келадыр» [Катанов Н.Ф., 1907; с. 215. Перевод наш]. Он оказывает помощь или дает добрый совет. Таким путем божества отправляют своих посланников, желая дать людям известие. Образ «старика в худом платье» довольно часто встречается в фольклорных произведениях хакасов, олицетворяя собой символический образ мудрости, которой присуще равнодушие к мирским благам. У хакасов, как у всех остальных тюрков, уважение к людям преклонного возраста возведено в культ, и это является одним из проявлений народной этики. Божества-чайааны создают также небесных богатырей, призванных соблюдать равновесие между Добром и Злом в Среднем мире. Творцы посылают богатырям грамоты, в которых описаны их странствования, эпико-героическое будущее или указаны предназначенные им суженые. Небесные богатыри, как и люди, могли совершить грех, тогда их божества наказывали. «Кудай алыптарны онар мактанган учун, пазын позік кодірген учун, абакайын ирелеен учун пала йок идедір» — «Бог делает богатырей бездетными за то, что они безмерно хвалятся: высоко поднимают голову, мучают своих супруг», - повествуют мифы [КатановН.Ф., 1907; с. 246. Перевод наш]. Наказания очень страшны: «богатырей сжимают между двумя горами; садят в темницу, где дневной свет с дырочку, величиной с игольное ушко; отнимают половину ума, наконец, их сыновья не становятся богатырями» [Перевод Катанова Н.Ф., 1907; с. 217]. Человек, ослушавшийся их повелений, в качестве наказания превращается в камень. Божества-чайааны могут оказывать помощь людям. Их роль в жизни человека велика. Он просит у богов помощи, призывает их в свидетели и, давая обещание отблагодарить, с их именем совершает свои дела. Если они избавляют человека от опасности, то человек, кланяясь им, говорит: «Спасибо!». Божества могут причинить людям и зло в ответ на их неблагодарность и непочтение. Среди хакасов был широко распространен культ богини Умай (Ымай). Это один из самых древних божеств. Л. П. Потапов заметил, что «культ этой богини сложился еще в период появления древнейшей алтайской языковой общности» [1984; с. 93-97]. По представлениям хакасов, богиня Умай обитает среди небесных белых облаков и простым людям не видна. «Детские души хранятся у нее в «храме» священной горы Ымай-тасхыл, расположенной в верховьях Енисея. Она считалась богиней плодородия, покровительницей новорожденных и хранительницей детских душ, олицетворяя женское начало» [Бутанаев В.Я., 1996; ее. 101, 133, 169]. В заклинаниях о ней говорится: «Стоишь ты во главе уходящих и в конце приходящих... Ты - соучастница Плеяд и собеседница единого (Бога)! С момента сотворения мира ты стала утолять голод алчущих и согревать зябнущих... Тебе, мать моя Ымай, я даю пищу, ты вкушай одну чашку... Да не расстраиваются изголовья (людей) и да не расстегиваются воротники и пуговицы!» [Катанов Н.Ф., 1907; с. 217]. У хакасов наряду с божеством Умай упоминается Ульген: «Есть две священные {пай) березы, одна - мужчина, другая - женщина. Эти две березы появились тогда, когда вначале мы родились от отца Ульген и матери Ымай» [Н.Ф. Катанов, 1907; с. 565].
Мифы о духах-хозяевах гор
В основе мифов о духах-хозяевах гор лежит весьма древнее и распространенное явление почитания гор, вошедшее во многие религиозно-мифологические системы мира. В традиционных представлениях сама идея горы несла полисемантическую нагрузку. «Горы, выраставшие из земных недр и простиравшиеся высоко в небо, являлись зримым символом единства мира, олицетворением жизненной силы и гармонии. Более того, самая высокая вершина выступала как путь, дорога, по которой осуществлялась связь людей с небом, она стала символом связи мира людей с миром тенгриев - небожителей» [Кара-СалА., 2001; с. 98].
У народов Южной Сибири наиболее распространенный культ хозяина горы, ассимилировав культ родовых предков, занял универсальное место в общих воззрениях. «Гора в архаических представлениях нередко являлась алломорфом дерева, несла ту же семантическую нагрузку - оси мира и т.д.» [Мифы народов мира, 1997; с. 311]. Хозяин родовой, племенной и даже всенародной горы в представлениях людей становился высшим распорядителем жизни живых, их верховным покровителем и даже божеством. На почве этих представлений возникало бесконечное множество рассказов о встрече человека с хозяином горы.
Дух-хозяин горы (таг ээзг) считался одним из сильнейших духов Среднего мира. К нему обращались с призывом о помощи. Люди думали, что таг ээзг за оказанную помощь должен получить вознаграждение в виде жертвы. Жертвоприношения совершались на горе (таг тайыг). «Самым распространенным являлся таг тайых - жертвоприношения хозяину родовой горы, которые проходили регулярно с 1 по 19 июля» [Катанов Н.Ф., 1893; с. 31-34]. Такое отношение вытекало из представлений, будто все сверхъестественные существа человекоподобны не только по внешнему облику, но и по образу жизни и потребностям. Им свойственно все людское, в том числе желание получить хорошую пищу, услышать добрые слова и т.п.
Реконструкция представлений о внешнем виде показало, что представления о горных духах были общими для всех этнических групп хакасов. Н.А.Алексеев по этому поводу пишет: «...качинцы считали их невидимыми. Однако они могут появиться в образе старика и помочь человеку, заблудившемуся в тайге. Кызыльцы считали, что горные духи выглядят так же, как люди, но не видимы для человека. У них, в отличие от людей, нет бровей. Они могут показаться верхом на коне, но не оставляют никаких следов» [1980; с. 146].
В мифах и заклинаниях к таг ээзг обращались со следующими словами: Ездишь ты на черно-буром скакуне, Из черной выдры у тебя камча, А шапка из лисицы черноспинной. [Катанов Н.Ф., 1893; с. 29. Перевод уточнен нами]. В некоторых случаях горный дух представляется как существо бестелесное: «Пістін харахха корінминчелер» — «Они невидимы нашему глазу» [ПМА, Тохтобина С.Г. Перевод наш]. Помимо этого существует представление о том, что горный дух может являться в виде вихря: «Если придет вихрь (хуюн), то наш татарский народ говорит: «Хурии! Хурии! («помилуй»)». Говорят, что в таком вихре носится горный бог» [Катанов Н.Ф., 1907; с. 27. Перевод уточнен нами]. Встречаются мифы о духе-хозяине гор, который является в облике женщины. Обычно ее принимают за хозяйку или дочь хозяина гор. Ведет она себя так же, как и хозяин гор: любит слушать игру на хомысе, одаривает удачной охотой тех, кто ей понравился. Образ женщины-хозяйки горы обрисован в мифах более скупо, без излишней детализации. Относительно образа хозяйки горы в русском фольклоре В.Я. Пропп считал, что по своему происхождению он связан с эпохой матриархата [1946; с. 95]. По всей видимости, женский образ хозяина горы является реминисценцией идеи плодородия в лице богини Матери-Земли. Локусы духа-хозяина горы, представленные в мифологических рассказах, всегда одни и те же. Обычно упоминается, что жилище его находится в горах или пещерах. Зимой горный дух спит, а весной просыпается. Вместе с ним оживает вся природа. И так до самой осени. «Суг ээз1, тайга ээз\ часхыда сыхчалар» - «Духи воды и духи гор весной просыпаются» [ПМА, Тохтобина С.Г. Перевод наш]. В народном сознании жизнь горных духов являлась своеобразным отражением окружающей действительности. У них такие же, как и у людей, дома и семьи. По представлениям хакасов, у хозяина гор имелось семь сыновей, которые были караульщиками гор и телохранителями 14 «желтых дев» - дочерей хозяина горы. Обычно горный дух - владелец огромных богатств гор и леса, главным образом пушнины. Также духи-хозяева занимаются ведением хозяйства. Они разводят домашних животных: коров, овец, коз, лошадей. В качестве скота нередко выступают таежные звери. Встречаются описания смерти духа-хозяина горы: «Когда хозяин горы умирает, строят дом. Его там оставляют. Если умирает жена или дочь, их туда же относят. Затем за ними ухаживают. Все его вещи туда уносят. Он может лежать долго-долго. Затем он приходит в себя. Гора -это очень странная вещь. Когда он приходит в себя, его кормят, приносят все. Когда жена умирает, муж женится не на умершей. Но умершая женщина выходит замуж за умершего. Также все хорошо готовят им. Вообще не обижают. Пока один из супругов не умрет, хозяева гор не разводятся. Вместе живут, вместе стареют. С женой не разводятся, жену не обижают.» [РФ ХакНИИЯЛИ, д. № 1110; с. 28. Перевод наш]. Исследователи пишут: «Чтобы сделать любое явление мира умопостигаемым, его надо было, прежде всего, уподобить человеку. В принципе антропоморфироваться мог любой объект, так как традиционному мировоззрению импонировала идея глубинного тождества, понимаемого закономерно, как родство» [Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1989; с. 8].