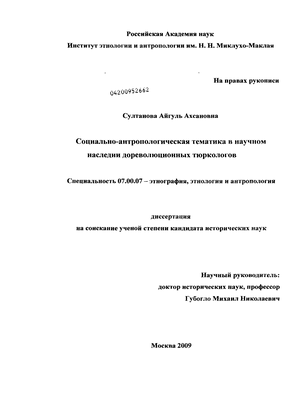Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Из истории этнографической проблематики в тюркологических исследованиях дореволюционной России 18
Глава 2. Основные направления в предметной области тюркологической науки 41
Тюркология в системе общеевропейского гуманитарного знания. Концептуальные корни дореволюционной тюркологии 41
Вопросы государственности и права у кочевых народов .
Экономическая основа кочевого хозяйства.
Азиатские империи: возникновение, расцвет, упадок.
Механизмы и итоги межкультурного взаимодействия. Кочевничество в истории России 54
Культура как предмет научного изучения в тюркологии. Культура и религия. Внешняя история языка на примере тюркских народов 72
Вопросы этнической мобилизации у тюрков.
Национальная политика в Российской империи и Советском союзе 81
Глава 3. Полевые материалы и модели их интерпретации 93
Заключение 121
Список использованной литературы 124
- Тюркология в системе общеевропейского гуманитарного знания. Концептуальные корни дореволюционной тюркологии
- Вопросы государственности и права у кочевых народов
- Механизмы и итоги межкультурного взаимодействия. Кочевничество в истории России
- Культура как предмет научного изучения в тюркологии. Культура и религия. Внешняя история языка на примере тюркских народов
Введение к работе
Возросший в настоящее время интерес к историографическим сюжетам оправдан многими факторами. Прежде всего, это обращение к огромному фонду гуманитарной мысли, способное отразить основные этапы становления науки. Другой, незаслуженно забытой многими исследователями, причиной является поиск реальных связей между традиционными и инновационными течениями в современной этнологии. Внимательное чтение современных авторов и сочинений отечественных классиков приводит к неожиданным открытиям в области преемственности научных подходов. В уже классических трудах В. В. Бартольда, В. В. Радлова, В. А. Гордлевского и др. нашли отражение проблемы современной этнологии, рассматривающей механизмы межкультурных интеграционных процессов. Анализ научного наследия указанных авторов позволяет охарактеризовать их не только как сторонников этнографического реализма, социологического отражения реальности, но и как пионеров аналитической интерпретации. Объективный взгляд на достижения дореволюционных ученых позволяет утверждать, что их концепции развития этнических культур предвосхищали некоторые этнологические теории, получившие широкое распространение на рубеже XXI века.
Исследовательский интерес тюркологии в ее дореволюционном варианте был сосредоточен на этнографическом изучении тюркских народов, языковедческом направлении — изучении памятников тюркской письменности, современных языков и диалектов, истории тюркских народов. Особый интерес представляла проблема этногенетических реконструкций, позволявших проследить пути межкультурного взаимовлияния. Важным достижением тюркологии XIX - начала XX столетий стал ввод в научный оборот огромного массива источников. Учеными XVII - первой трети XX вв. была проделана огромная работа по обнаружению, анализу и переводу рукописей восточных авторов средневековья. Отдельного внимания заслуживает многолетний труд исследователей в области интерпретации рунических надписей. Переводы, выполненные В. В. Радловым, В. В. Бартольдом и другими исследователями до сих пор служат ценным фактологическим материалом для реконструкции истории, материальной и духовной культуры народов Евразии.
Универсальность тюркологии приближала ее к западноевропейским научным стандартам, предпочитавших определять науку о «туземных» обществах как социальную или культурную антропологию. Настоящая диссертация основана на предположении об относительной близости дореволюционной тюркологии к этнологической (социально-антропологической) традиции западного образца. Несмотря на разные условия становления и развития рассматриваемых дисциплин и российская тюркология (частичной правопреемницей ее предметной области и методики которой стала советская этнография), и социальная антропология (этнология) имели единые концептуальные корни. В первую очередь это объяснялось единым образованием. Большая часть российских, американских и европейских ученых являлись выпускниками крупнейших университетов Германии Англии и Франции. Выпускниками Берлинского университета были В. В. Радлов и Ф. Боас, утвердившие научные традиции берлинской школы на разных континентах. Сходство научных традиций обеспечивало и функционирование глобального научного пространства, естественной составной частью которого являлось российское востоковедение.
Главным объектом тюркологических исследований выступали евразийские тюркские общества, с давних времен втянутые в геополитическое пространство Российской империи. Постоянное столкновение с чуждым оседлому большинству миром монгольских и тюркских кочевников обеспечило лидирующие позиции отечественного востоковедения. В научном сообществе рубежа ХГХ-ХХ столетий было распространено мнение о важной посреднической функции кочевого мира — катализатора культурного взаимодействия между восточным и западным мирами . Само дробление востоковедения на узкоспециализированные области происходило благодаря условиям, в которых вершились научные изыскания. Прежде всего, географическая близость изучаемых народов, обусловившая их сопричастность к истории страны в целом. Таким исключительно практическим интересом были обусловлены и успехи в изучении кочевых народов, не раз вторгавшихся в российскую историю". Тюркология приобрела такое колоссальное значение, потому что «восток влиял на славян главным образом через тюрок» .
Тюркский мир в представлении большинства дореволюционных востоковедов отнюдь не представлял монолитного единства. Тезис о «извечном существовании единой тюркской нации» и «извечном автохтонизме современных тюркских народов» не получил отклика среди ученых XIX века4. Несмотря на лингвистическую и некоторую этнографическую близость, тюрки, по мнению большинства рассматриваемых исследователей, принадлежали к разным цивилизационным фундаментам, как экономическим, так и религиозным. В представлении В. В. Радлова и В. В. Бартольда чувство сопричастности к определенному социальному и/или политическому объединению заслоняло этническую самоидентификацию. Такой подход обеспечивал высокую продуктивность исследований в области разработки теорий общественного развития в условиях культурной диффузии, когда традиционная структура тюркских народов подвергалась значительным изменениям.
Интерес тюркологов к взаимопроникающему влиянию культур зачастую приводил их к выводу отсутствия статичности культуры. Впервые в исторической науке был поставлен вопрос о соотнесении кочевого образа жизни с элементами традиционно-оседлой цивилизации.1 Важным шагом для преодоления обывательского представления о некоторой «первобытности» обитателей степи стало исследование В. В. Бартольда, посвященное земледелию и городской культуре у традиционно кочевых обществ. Сам факт появления признаков «оседлости» ученый связывал с влиянием соседних высокоразвитых земледельческих цивилизаций и фактору вовлеченности территории в международные торговые пути.
Одним из главных достижений рассматриваемого этапа стало подробное изучение кочевых тюркских и монгольских обществ. Многие положения дореволюционной тюркологии о способах и механизмах функционирования номадов положили начало актуальной и сегодня дискуссии о природе социальных и политических институтов кочевого общества. Дореволюционная тюркология была склонна рассматривать кочевничество прежде всего в его социально-культурном срезе, как «особый культурный тип, связанный со специфическим образом жизни, мировоззрением, ценностями и т. п.»". Недостаточное внимание к проблемам экономического базиса оправдано спецификой научной методологии дореволюционной школы, выводившей на первый план проблемы культурной диффузии и заимствований. Классическим образцом межкультурной интеграции стали кочевые государства, стимулировавшие не только этническое взаимодействие, но и конструирование новых этнических общностей.
Обращение к вопросам жизнедеятельности кочевой социальной системы стало залогом социальной и политической актуальности тюркологии. Прежде всего, этот интерес был оправдан историческими обстоятельствами. Россия, граничившая с тюркским миром, не раз подвергалась их прямому или косвенному влиянию. Такое соседство не могло не оказать влияния на характер этнокультурного соотношения на территории империи. Наиболее активные фазы межкультурной интеграции приходились на этап монгольских завоеваний, и на период XVI-XIX вв., когда к России присоединялись территории с численно и культурно доминировавшим тюркским компонентом. В отличие от большинства советских исследователей, оценивавших кочевой мир негативно, отрицательно влиявший «на прогрессивное развитие соседних с ними оседло-земледельческих народов»1, классики тюркологии старались рассматривать и положительную сторону тюркского влияния. Обладая огромным военным потенциалом, номады оказали также существенное деструктивное влияние на исторический процесс, в результате их разрушительных нашествий были уничтожены многие культурные ценности, народы и цивилизации2. Однако, «разрушение производительных сил оседлого земледельческого общества, истребление людей, ограбление имущества и уничтожение памятников материальной культуры» не считались главными последствиями кочевых завоеваний3. Дореволюционные ученые отмечали прежде всего вклад кочевников и в дело «трансконтинентальной циркуляции и трансмиссии культурных и технологических артефактов и инноваций» .
Вопрос о социальных и политических институтах кочевых народов до сих пор не нашел окончательного решения. Причиной неоднозначности таких дискуссий стали различия «исследовательских методологий и парадигм», определенных «современными политическими пристрастиями авторов и их этнокультурной идентификацией»1. Признавая существование крупных кочевых империй, тюркологи XIX - начала XX столетий отмечали эфемерность и неустойчивость тюркских и монгольских государственных образований. Позицию большинства ученых рассматриваемого этапа вполне можно обобщить формулой уже советского исследователя Г. А. Федорова-Давыдова: «Все новое, связанное с классовым государственным строем, покрыто вуалью общинно-родовых и племенных отношений, а все ступени политического и социального подчинения строятся по ступеням общинно - / \ 2
родовых делении (семья — род — племя - союз племен)» .
В настоящее время происходит постепенный отказ от господствовавших в советской историографии взглядов о сведении «родовой организации кочевников к пережиткам первобытнообщинного строя» . По мнению современных исследователей такая позиция «фактически игнорировала наиболее мощное явление общественной системы номадов — родовую организацию, являющуюся генерализирующей по отношению ко всем остальным элементам системы»4. В этой связи особенно актуальным становится изучение классических произведений дореволюционной тюркологии, ставивших родовую организацию в центр исторического развития кочевников: «родовая организация играла роль основного фона для различных институтов и явлений в кочевом обществе».
Для эффективного анализа достижений отечественного востоковедения были использованы работы известных тюркологов XIX и XX столетий В. В. Радлова, В. В. Бартольда, В. А. Гордлевского и А. 3. Валиди. Названные авторы являлись представителями главных тюркологических школ Российской империи: петербургской, московской и казанской. Совокупный анализ их работ дает наиболее полную, насколько позволяют рамки диссертационного исследования по общей историографии, картину развития теоретического народоведения. историография проблемы. Анализ литературы, посвященной истории развития отечественного ориентализма, позволяет говорить о тщательной и объемной работе, проделанной исследователями в течение нескольких столетий. Уже в XIX веке появляются монументальные произведения, отразившие основные вехи российского востоковедения, становление его предметной области и методологии1. Однако, интерес к тюркологии, как самостоятельному направлению возникает позже, в значительной мере благодаря советским авторам. Этот этап отмечен прежде всего научной деятельностью А. Н. Кононова, чьи работы по истории дореволюционной тюркологии отличаются уникальностью введенных в оборот архивных источников2. На сегодняшний день его работы в области тюркологической историографии являются наиболее информативными. В них представлены сведения об основных тюркологических центрах в досоветской России, периодизация науки, проанализированы достижения крупнейших ученых дооктябрьского этапа. Среди обобщающих работ можно выделить сводную вопросы изучения истории отечественного востоковедения. XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. - М., 1960. работу «Очерки по истории русского востоковедения» . Многотомное издание представляет собой сборник статей, посвященных актуальным историографическим сюжетам востоковедения в дореволюционной России. На сегодняшний день этот труд является универсальным пособием для любого ориенталиста, интересующегося историей отечественной науки.
Тюркология в системе общеевропейского гуманитарного знания. Концептуальные корни дореволюционной тюркологии
Важным отличительным признаком тюркологии стало ее вхождение в орбиту досоветского варианта «народоведения». Включение сбора этнографических сведений и материалов в задачи полевых экспедиций российских востоковедов определялось также отсутствием этнографического подразделения в Академии Наук1. Путаница в определении предметных областей «народоведческих» дисциплин -этнологии, лингвистики, социологии и др. не способствовала продуктивному анализу достижений дореволюционной тюркологической науки. Широкий охват исследовательских интересов, методология научных изысканий и энциклопедический кругозор ведущих ученых-тюркологов делали российское востоковедение гораздо объемнее по значению и содержанию, чем западная его версия, которая понималась «преимущественно как изучение восточных языков и литературы» и была направлена на изучение «первобытных и простейших обществ»1. Исключение составляла германская школа. Помимо ориенталистики здесь существовала особая дисциплина для исследования обществ европейских стран, расположенных к востоку от Германии - «Ostforschung» .
Социально-антропологическая традиция в изучении народов, культур и языков в российском востоковедении зачастую была глубже, чем в Британии начала века. «Включенное наблюдение», взятое на вооружение британской социальной антропологией, было знакомо отечественному востоковедению задолго до Бронислава Малиновского. Востоковедение не столько вмещало в себя географическое и этнографическое изучение восточных обществ, но и синтезировало достижения лингвистики, археологии и обширного описательного материала для фиксации этнической карты мира и ее динамике. Выделение в составе востоковедения отдельных составляющих -тюркологии, арабистики, монголоведения и т. д. свидетельствовало о высокой результативности научных исследований. Ограничение сферы исследовательского интереса локальными этнокультурными общностями позволяло не «распыляться» в «дебрях» теоретических построений, а основывать выводы на сопоставительно-историческом материале схожих народов.
Тюрки как исследуемый объект интересовали востоковедов не меньше чем меланизийские племена представителей западноевропейского и американского научного сообщества. Интерес к разработке проблем общественного развития на примере «чистых», не «затронутых цивилизацией» социальных и этнических групп стал предтечей ряда новейших направлений этнологии. Однако прямое соотношение западноевропейской антропологии и дореволюционной тюркологии затрудняется по причине многообразия и огромной социальной сложности тюркских этнических групп, большая часть которых была органической частью мусульманского мира. К тому же тюрки форсированно вовлекались в глобальные этнокультурные процессы, вызванные возникновением поразительных по своему историческому значению государств-империй, изменивших как этническую карту евразийских просторов, так и традиционную схему хозяйственного районирования. В этом отношении российская тюркология опережала британскую антропологию, лишь в середине века обратившую взоры к «сложным обществам, особенно обществам Ближнего Востока и Азии» и поставившую целью стать самостоятельной дисциплиной «в некоторой мере смежной с востоковедением и дополняющей востоковедение»1.
Не претендуя на лидирующие позиции в системе комплексного знания о человеке, социальная антропология отстояла свои права на объем исследовательского багажа и балансирование в междисциплинарном поле". Важным отличительным признаком рассматриваемых научных традиций стал комплексный характер исследовательской работы. В центре исследовательского интереса англоязычных антропологов была «чужая» культура, во многом это объясняется тем, что исследование собственного общества и созданной им реальностью было экспроприировано комплексом гуманитарных наук, в том числе нарождающейся социологией.
Важным достижением английского функционализма стал «отход от диахронии к синхронии в изучении общества»3. Отказ от рассмотрения «социальных явлений только во временном их развитии, как простое чередование пережитков и заимствований в исторической последовательности» было замещено подробным анализом социальных явлений как взаимозависимой целостности функциональных элементов. Этот подход широко использовался отечественными ориенталистами при анализе этносоциальной организации кочевников. Взгляд на общественную структуру номадов как единый организм, основанный на различных видах внутренних связей, прежде всего родовых, оправдал свою эффективность в многочисленных исследованиях, составивших золотой фонд российской тюркологии.
Российская империя, приумножая территориальные приращения, сама определила зону научных поисков. Объектом изучения российских тюркологов была культура «своих» «туземцев», имевших собственные традиции государственности, общественного и духовного развития. Часто ученые совмещали научные и практические задачи и не столько занимались изучением народов, сколько пытались оправдать действия метрополии. В этой связи кажется уместным высказывание одного из самых ярких светил мирового востоковедения В. В. Бартольда о культрегерской роли русского народа в деле развития народов и разрешения межнациональных противоречий. «Первенство русского народа в созданной им империи, -писал он, - может быть обеспечено только при условии осуществления представителями этого народа культурных задач, определяемых географическим положением России и составом ее населения» .
Социокультурные исследования часто свидетельствовали о высоком уровне материального благополучия данного конкретного государства. Классический английский вариант дисциплины получил жизнь благодаря наличию у страны огромного количества колоний, предоставивших ученым уникальный полевой материал. Соприкосновение с иной культурой стимулировало обширные социологические проекты, построение теорий общественного развития в «чистом» виде, без примеси государственных и информационных технологий. Полученный эмпирический материал служил отправной точкой для построения относительно универсальных схем культурного развития всего человечества.
Британский взгляд на современное состояние туземных обществ был оправдан спецификой колониальной империи. Удаленностью метрополии объясняется и склонность к теоретизированию и внимание британцев к материалу, выявлению структуры, функциям, стадиальным градациям и институтам, совершенствованию методологии. Первоначально не было экстренной необходимости в практическом использовании научных результатов. Бронислав Малиновский лишь спустя десятилетия выдвинул тезис о «прикладной» или «практикующей» антропологии, которая пусть и находится вне академической сферы, но призвана решать прикладные задачи по оптимизации форм и методов колониального управления на основе применения научных методов. Прикладная антропология впервые была введена в качестве университетской специализации в 1906 году в Оксфорде. Интенсивное внедрение научных разработок в жизнь финансировалось как частными, так и государственными структурами. В Великобритании при поддержке Королевского антропологического института был создан учебный центр для направляемых в колонии офицеров для исключения возможности нецеленаправленного применения военной силы. На практике в состав колониальных администраций внедрялась должность правительственного антрополога.
Вопросы государственности и права у кочевых народов
Методологическая составляющая любой научной дисциплины отражает глубину и противоречивость протекающих процессов. Новые технологии и методические приемы привносят в традиционные представления о путях и целях полевых исследований иное звучание, по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Несмотря на глобальный прорыв, произошедший за двадцатое столетие и снабдивший современных ученых основательным арсеналом технических средств, основа полевой исследовательской работы осталась прежней. Во многом теоретический опыт «золотого века» российской тюркологии опередил достижения технического прогресса. И прослеживание методологии в ее историческом ракурсе позволяет делать далеко идущие выводы как о преемственности, так и некоторой предопределенности современных наук о культуре (прежде всего этнологии - частичной правопреемницы классического дореволюционного востоковедения).
Тюркология являлась одним из самых сильных и разработанных направлений востоковедной науки. Исследовательский интерес был сосредоточен на этнографическом изучении тюркских народов, языковедческом направлении — изучении памятников тюркской письменности, современных языков и диалектов, истории тюркских народов. Ориентация тюркологии на изучение «восточной словесности и древностей» привела к тому, что профессиональные востоковеды владели прежде всего методами и приемами филологических исследований. Лишь расширение общей тематики исследований выработало тип «востоковеда-универсала, для которого материалом исследования служило любое проявление духовной и материальной культуры народов Востока»1. «Всеохватность» тюркологии как комплексной дисциплины позволяла ученым смело использовать методологический арсенал, принадлежащий ныне ее автономным ответвлениям. Тюрколог сочетал «в себе языковеда, литературоведа, этнографа, историка»". При этом памятники материальной культуры интересовали ученых на рубеже XIX-XX веков, когда успехи археологии и этнографии сделали возможным широкое применение таких источников.
Немаловажным фактором успеха российской тюркологии стала «близость» этнографического материала. Обилие тюркских народов внутри Российской империи значительно облегчало исследовательскую задачу. В отличие от западноевропейских коллег, вынужденных совершать длительные, изматывающие экспедиции на большие расстояния, отечественные тюркологи могли использовать метод включенного наблюдения не только на территории всего материка, но и непосредственно внутри страны. Помимо интенсивного сбора информационного материала, экспедиционные исследования явились важнейшей частью программы интеграции тюркских народов в государственный механизм Российской империи. Этими же причинами обусловлен успех российского исламоведения. Практическая направленность исследований на религиозную тематику был очевидна. Включение в состав страны регионов с мусульманской традицией делало жизненно необходимым изучение социальной и политической истории исламских обществ: «одной из отличительных черт нашей инородческой политики было признание племенных особенностей инородцев, права за ними жить по вековым устоям жизни»1.
Необходимость выработки механизма управления громоздкой и многокультурной империей требовала организации больших экспедиций по регионам страны. Фактически экспедиции являлись государственным заказом и служили утилитарным целям. По проектам таких «государственных» исследований был собран колоссальный материал по социальной организации, материальной и духовной культуре тюркских народов России. И если начало составления обширной тюркологической коллекции было связано с неподдельным интересом к ее экономической составляющей (масштабный тур «охотника за сокровищами» Мессершмидта), то подлинный расцвет экспедиционной деятельности произошел благодаря социально-политическим мотивам. Помимо экспедиционной деятельности существовал еще один важный фактор сбора статистических и этнографических сведений — военные походы. Необходимость составления специальных инструкций для участников военных походов привела к выработке вопросника для исследования присоединяемых территорий «в географическом, этнографическом и культурно-историческом отношениях»2.
Важность практической тюркологии была очевидна для российских ученых. Однако не всегда результаты научных исследований были востребованы чиновниками при разработке «национальной» политики. По меткому замечанию В. В. Бартольда, непоследовательность национальной политики «объясняется не какими-либо внешними препятствиями при осуществлении начинаний правительства, но колебаниями самого правительства, происходившими от недостаточного знакомства с современной жизнью края и его прошлым»
С момента своего зарождения отечественная тюркология имела практическую направленность. Согласно распространенной точке зрения наука в Российской империи в значительной степени интересовала многих государственных деятелей лишь с точки зрения практической пользы". Исключительно практической необходимостью объяснялись и проекты востоковедных образовательных учреждений, представленные чиновникам научным сообществом в XVII-XIX вв. Одним из первых проект такого учреждения - академии восточных наук и языков - был представлен в 1733 году востоковедом Г. Я. Керром. Необходимость изучения тюркской культуры он подчеркивал необходимостью изучения социального и политического устройства приграничных с Россией стран: «Назначенным в пограничные с Турцией, Персией, Татарией, Бухарой земли Российской империи военоначальникам, губернаторам, правителям, советникам, судьям необходимо знать, каким образом, действуя в соответствии с обычаями отцов этих народов, склонить их на свою сторону и укрепить в них благосклонность к Российской империи»
Механизмы и итоги межкультурного взаимодействия. Кочевничество в истории России
Важным отличительным признаком тюркологии стала попытка применить комплексный подход к научному исследованию, применяя методы различных гуманитарных дисциплин. Тем более, что специфика и особенности ведения полевой работы не подвергались специальному исследованию и шли большей частью экспериментальным путем. Несмотря на огромный материал по культуре тюркских народов, собранный в ходе академических экспедиций, в течение XVIII столетия в штате АН не было профессионального тюрколога1. Значительную работу в деле систематизации источников проделал X. Д. Френ, директор Азиатского музея. Им была систематизирована богатая коллекция нумизматических материалов и тюркских рукописей2. Специальные работы, обобщившие опыт предыдущих поколений и служивших пособиями для ведения полевых исследований, появились только во второй половине XX столетия .
Становление методологической составляющей зависело от становления научных школ и направлений. По мнению историков русского востоковедения для появления крупной научной школы необходим оптимальный баланс следующих установок: 1) поддержка не только со стороны научного сообщества, но и общества в целом, 2) высокий уровень развития науки, при котором специалист способен работать автономно, не прибегая к помощи разнопрофильных специалистов; 3) наличие высококвалифицированных научных кадров . Такое оптимальное соотношение было достигнуто в середине XIX века, когда на авансцену тюркологической мысли вышли три крупнейших университетских центра: петербургский, казанский и московский. С образованием востоковедных центров страны связано и установление железного правила (за редким исключением) сочетания «трех китов» научной деятельности: кабинетной работы, преподавательской деятельности и полевых выездов. Преподавательская деятельность обеспечивала и создание преемственности научных направлений и во многом нашла отражение уже в советской тюркологии.
Высокий уровень методологической базы обеспечивал принцип построения востоковедного образования в высших учебных заведениях. Как известно, опорой для развития востоковедения стали кафедры восточных языков. Научно-исследовательская база строилась на двух основных принципах: приглашение иностранных специалистов и заимствование и адаптация западных технологий (Казань), а также создание оригинальных методик (Московский университет). В последнем случае избранники из отечественной молодежи проходили обучение за границей . Широкое сотрудничество российских специалистов с западноевропейскими, а позже и американскими коллегами не допускало информационного вакуума и обеспечивало высокий уровень международной научной координации.
Руководители востоковедных кафедр понимали необходимость полевой работы. Один из черновых протоколов заседания Факультета восточных языков, alma mater крупнейших российских тюркологов, свидетельствует о важности полевого опыта для любого востоковеда: «Факультет восточных языков более всех других факультетов имеет необходимость в такой мере, потому что исследование Востока - что составляет существенное его назначение — более всех других отраслей науки нуждается в личном, хотя и кратковременном ознакомлении его исследователей с местными его языками и обычаями. Четырех- или пятилетние занятия молодых людей в университете восточными языками, даже и при существующих способах, не могут подвинуть так далеко их познаний, как кратковременное пребывание их на самом Востоке» .
Важным моментом в полевом исследовании ученые считали сохранение объективности при изучении этнических культур. Европейски ориентированный исследователь не должен был забывать о разных условиях становления культур. И снобизм, позволяющий исследователю смотреть на исследуемое общество «сверху вниз», мог сыграть роковую ошибку. Позицию изначального сходства позиций исследователя и исследуемого яснее всех выразил В. В. Бартольд: «Человек по своей природе везде одинаков и что только условия его исторической жизни, создающие влияние наследственности, делают его тем или другим, исключает высокомерное презрение к народам низшей культуры. Проникнутый этим убеждением, историк вносит в свой труд ту симпатию к людям, которая отнюдь не мешает объяснить темные стороны исторической жизни и без которой не может быть плодотворной научной работы»
Работа в поле затруднялась «непониманием» целей экспедиций со стороны исследуемых народов. В. В. Бартольд не раз отмечал трудности, связанные с региональными экспедициями, когда местное население, независимо от сословной принадлежности, агрессивно принимает попытки собрать необходимый полевой материал, усматривая корыстный умысел . В. А. Гордлевский также подчеркивал сложность полевых этнографических экспедиций, в особенности охватывавших область религиозной этнографии.
Культура как предмет научного изучения в тюркологии. Культура и религия. Внешняя история языка на примере тюркских народов
К первой четверти XX века российская тюркология занимала лидирующие позиции в системе наук о Востоке, включавшей в себя этнологию, лингвистику, археологию и другие «народоведческие» дисциплины. Объемность и широкий охват исследований, активное использование междисциплинарного подхода позволяет говорить о значительной близости российской тюркологии к западноевропейскому варианту отечественной этнологии — социальной антропологии. Близость указанных дисциплин обеспечивали общие образовательные традиции и как следствие единая концептуальная основа научно-теоретических исследований (эволюционизм, диффузионизм и др.).
Тематика тюркологических исследований XIX — XX столетий сводилась преимущественно к изучению социальной и политической организации тюркских обществ, вопросов межэтнической интеграции, роли религиозного и национального факторов в истории тюрков. Заслугой отечественных ученых является также становление номадоведения, рассматривающего адаптационные модели кочевого мира. Интерес к проблеме был вызван как особенностями российской истории, так и необходимостью выработки правильной политики в отношении присоединяемых тюркских территорий. Вопросы социальной организации, политического лидерства, культурной и духовной жизни кочевников интерпретировались с учетом уникальных источников.
Характерный для дореволюционной тюркологии синтез в виде выявления, анализа и классификации культурного многообразия через сходства и различия признаков, разделяющих и объединяющих народы, позволяет сделать вывод о том, что этнографическая проблематика в тюркологии не замыкалась (не зацикливалась) на парадигме «только этнос и ничего кроме этносов». Ярче всего эта тенденция проявилась в исследованиях, посвященных кочевым империям. Их основной исторической особенностью был признан симбиоз разных культурных, а не этнических фундаментов. Максимально упростив основную научную проблематику дореволюционной тюркологии, можно свести ее к простой формуле — взаимосвязи и взаимозависимости кочевого и оседлого мира. А если шире, проблеме культурной диффузии и глобальной трансформации в условиях многоэтничного существования. Научная проработка этих вопросов в немалой степени способствовала созданию эффективной модели многокультурного государства, каким являлись как Российская империя, так и Советский Союз.
Важным достижением дореволюционной тюркологии стал комплексный подход к исследуемым явлениям, объединявший методы различных гуманитарных наук. Междисциплинарный подход гарантировал не только высокую информативность тюркологических наук, но и предопределил исследовательскую методику при изучении узловых проблем этногенеза и этнической истории тюркских народов.
Положение изменилось после 1917 года, когда в связи с реформой университетского образования, молодые тюркологи выбирали себе узкую специализацию. Глубокий кризис, охвативший трансформирующееся общество, затронул и тюркологию, ставшую на путь обретения своего «марксистского» лица. Изолированное положение Советской России, противостояние «буржуазному» миру положило конец и международному научному сотрудничеству. Включение этнографии, археологии, религиоведения в субдисциплинарную область исторического знания имело двоякие последствия. Историзм в качестве подхода к изучению общества обусловил специфику советской тюркологии, ее повышенное внимание к этнической истории. В то же время невнимание к актуальным проблемам современности, отсутствие социологического подхода в тюркологии и концентрация научной проблематики вокруг отдельных проблем тюркской истории, лингвистики и этнографии не способствовало дальнейшему развитию социально-антропологического направления в тюркологии.