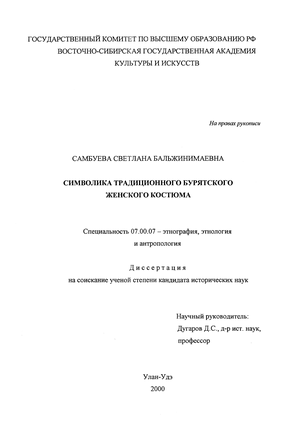Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Этническая история насельников Прибайкалья и сложение комплекса одежды . 14
Глава 2. Верхняя женская одежда: истоки покроя, художественного оформления и символика .
Глава 3. Символика головных уборов, прически, украшений и обуви бурят . 93
Заключение.
Библиография. 141
Приложение. 151
- Этническая история насельников Прибайкалья и сложение комплекса одежды
- Верхняя женская одежда: истоки покроя, художественного оформления и символика
- Символика головных уборов, прически, украшений и обуви бурят
Введение к работе
Разделение культуры на два пласта - материальную и духовную в этнографической, археологической, философской литературе издавна признано условным. Определяя предметную область этнографических исследований, Ю.В.Бромлей писал: «Наша наука практически всегда в первую очередь изучала этот слой культуры: традиционную материальную культуру, обычаи, обряды, народное творчество, т.е. те компоненты, в которых наиболее наглядно проявляется этническая специфика» (Бромлей, 1981, С. 357-358). Исследуя культуру жизнеобеспечения как подсистему культуры в широком значении этого слова, этнографы стремятся рассматривать ее во всех аспектах, - как материальные предметы, так и ту духовную деятельность человека, которая с ними связана, а именно: комплекс социально унаследованных, закрепленных в механизме этнокультурной традиции идей, представлений, стандартов поведения, нормативных критериев, предпочтений и т.п.
Изученность темы. Наиболее обширна литература по истории традиционного костюма разных народов. Его описывали В.Н.Белицер, 1951, 1973; Н.Ф.Прыткова, 1952, 1961; А.М.Решетов, 1970, И.В.Суслова, 1970; Л.П.Сычев, В.Л.Сычев, 1975; В.Л.Сычев, 1977; О.А.Сухарева, 1979, 1982; Н.И.Лебедева, Г.С.Маслова, 1967; Г.С.Маслова, 1984; Н.АГурошева, 1990; Г.П.Васильева, 1973, 1979; И.П.Засецкая, 1975; Л.А.Чвырь, 1979; Н.И.Клюева, Е.А.Михайлова, 1988; Ш.Ж.Тохтобаева, 1990; Н.Х.Хисматулина, 1990 и др.
Описание костюмов тюркоязычных народов Сибири представлено Л.П. Потаповым, 1951, Е.П.Зайцевой, 1990 (алтайский),
С.И.Вайнштейном, 1972, 1974, 1991 (тувинский), В.Л.Серошевским, 1993; А.И. Гоголевым, 1993; Ф.М.Зыковым, 1976, 1993; Р.С. Гаврильевой, 1998 (якутский), Н.Л. Жуковой, 1996 (юкагирский) и т.д.
Одежду монголов различных групп описывали неоднократно: И.Г.Георги, 1784; Г.Н.Потанин, 1893; А.М.Позднеев, 1896; И.М.Майский, 1921; Бадамхатан С, 1959, 1974; К.В.Вяткина, 1960; А.Рона-Таш, 1964;ЯдамсурэнУ., 1967; Л.Л.Викторова, 1970; 1980; 1987; Н.В.Кочешков, 1973; Батнасан Г., 1989; Д.Ц.Цыбанова, 1996 и др. Традиционный костюм калмыцкого народа зафиксирован Д.В.Сычевым, 1973; У.Э.Эрдниевым, 1980; Н.В.Кочешковым, 1979.
Бурятский костюм исследовали Д.Банзаров, 1955; М.Н.Хангалов, 1958, 1959, 1960; Г.Н.Потанин, 1948; А.В.Потанина, 1895; Г.М.Осокин, 1898, 1906; И.Е.Тугутов, 1958; А.В.Тумахани, 1962, 1970; К.В.Вяткина, 1969; Л.Линховоин, 1972; Е.Е.Янгутова, 1981; Р.Д.Бадмаева, 1987; И.И.Соктоева, 1988; М.Д.Цыбенова, 1992 и др.
Анализ изученной литературы, в которой рассмотрен традиционный костюм, позволил выявить два подхода к его изучению. Один из них - этнографический. Этот традиционный метод анализа, представленный в программах П.П.Хороших, 1926; Н.Ф.Прытковой, 1952, 1961, Е.И.Маховой, С.П.Русяйкиной, 1961; Н.И.Лебедевой, Г.С.Масловой, 1967; и др., опирается на деление одежды по назначению (мужская и женская, нательная и верхняя, обычная и специального назначения и т.д.) и по видам (рубаха, халат, шуба и т.д.), а особенности покроя рассматриваются уже в рамках каждого вида. Изучение с позиций классической триады: материал - форма - декор в тесном единстве с функциональным назначением вещи дает возможность исследователям выявить природу и специфику тех или иных форм одежды, проследить генезис и роль этнокультурных связей в их эволюции.
Другой подход - искусствоведческий, когда костюм рассматривается как один из видов народного искусства в контексте всей художественной культуры конкретного этноса. Благодаря этим исследованиям можно достаточно верно судить об уровне развития производительных сил того или иного этноса в определенную эпоху, о динамике развития разных форм культуры и характере этнокультурных связей.
Несколько иной подход был предложен Л.Я.Штернбергом, 1927; Н.В.Гаген-Торн, 1933; П.Г.Богатыревым и др. Поскольку, «одежда -паспорт человека, указывающий на его племенную, классовую, половую принадлежность» (Гаген-Торн, 1933, С. 122), постольку, она наделяется определенными «магическими знаками». Магическое значение, как подчеркивают исследователи, имеют покрой и цвет, орнамент и вышивка. При этом, «независимая магическая сила не всегда приписывается предмету потому, что он употребляется при мотивированном магическом действии; скорее, наоборот: сначала предмет награждается независимой сверхъестественной силой, затем пытаются объяснить эту силу, например, передачу другому предмету своих свойств, по одному из законов магии» (Богатырев, 1971, С. 201, 202). «Независимая магическая (или сверхъестественная) сила» в современных работах понимается как семантика или символика вещей, а, так называемые, «магические знаки» - как определенные символы. Новая терминология представляется более совершенной, поскольку «сила» или «знаки», о которых идет речь, не сводятся ни к магии, ни к сверхъестественному и связываются подчас с действием сложных семантических механизмов.
Сложно дать точное определение символики, потому что она имеет бесконечные измерения. Символика - это выражение идей, понятий или чувств с помощью условных знаков (символов); определенная совокупность символов (Толковый словарь иностранных слов, 1995, С. 457). Символика - это: «некоторый «язык» (в широком, семиотическом смысле), определяющий восприятие тех или иных фактов, как реальных, так потенциально возможных, в соответствующем историко-культурном контексте» (Успенский, 1996, С. 71). Символика -это то, что и стабильно, и мимолетно, скоротечно, что познаваемо и непознаваемо. Она исчезает, как только явится и проявится, как только исчезнет (Дулам, 1997, С.З), поскольку символ является одновременно универсальным и специфическим средством выражения. Таким образом, символика - это некий «язык», который несет определенную информацию через свою систему знаков - символов.
В современной этнографической литературе обоснован тезис о том, что вещь как символ представляет собой нечто качественно иное, чем та же вещь как утилитарный предмет. Символ, с одной стороны, объединяет конкретный социум, облегчая возможность общения между его представителями, вызывая одинаковую реакцию на происходящие события. С другой стороны, он организует саму информацию, обусловливая отбор значимых фактов, устанавливая тем самым определенную связь между ними и становясь, таким образом, этнодифференцирующим средством.
Необходимо добавить, что символ, являясь эквивалентом чего-либо, содержит в себе обширную и постоянно изменяющуюся информацию. Он является и «инструментом» познания, и одним из древнейших методов выражения реальности, способного раскрыть различные аспекты традиционной культуры, может служить источником для изучения этнокультурных контактов, а в более широком плане их культурогенеза и некоторых вопросов этногенеза. Осознание важной роли символа в материальной культуре, а именно, в одежде, обусловило появление ряда исследований в этом направлении.
В книге П.Г.Богатырева «Функции национального костюма в Моравской Словакии», впервые опубликованной на словацком языке, обоснован метод изучения народного костюма как особой семиотической системы; специальные главы посвящены магическим функциям костюма, его определению как вещи и как знака. Исследователь выделил основные функции народного костюма: практическую, эстетическую, магическую, функцию обозначения сословной или региональной принадлежности. Также он обратил внимание на то, что в зависимости от ситуации и характера костюма меняется значимость той или иной функции по отношению к другим. Так, например, для будничного костюма практическая функция более важна, чем эстетическая, а для праздничного, наоборот, эстетическая функция более важна, чем практическая (Богатырев, 1971, С. 304-305). Автор подчеркивал, что «общая структура функций предстает как нечто целое, обладающее своей особой функцией, отличной от тех отдельных функций, которые как отдельные элементы составляют всю структуру» (Богатырев, 1971, С. 357).
По мнению С.А.Токарева этнографический подход подразумевает, что вещи (одежда, пища, жилье) рассматриваются в свете их социального функционирования, предметом исследования становятся «отношения между людьми по поводу данной вещи», «социальные отношения, опосредованные материальными предметами» (Токарев, 1970, С. 3,5). Исследователь предполагает, что обычаи, обряды, верования, касающиеся вещей, всецело обусловлены их социальными функциями; материальные свойства вещей при таком подходе не имеют существенного значения.
М.Н.Мерцалова считает, что «...одежда изолирует человека (или людей) от внешней среды. А всякий вид защиты, по верованиям наших предков, можно было сохранить, упрочить с помощью магических действий, часто зашифрованных в рисунках орнамента, в формах произведений искусства» (Мерцалова, 1988, С. 10).
Рассуждения А.К.Байбурина в целом строятся в ином ключе, но и он фактически сводит символические функции вещей к передаче некоторой информации, когда утверждает, что для этнографа важны не универсальные свойства вещей, определяемые их практическим назначением, а элементы, «избыточные» с точки зрения утилитарной прагматики (Байбурин, 1983, С.9). Таким образом, например, специфическую информацию несут только те свойства одежды, которые не обусловлены непосредственно ее защитной функцией.
Символику некоторых элементов женского костюма тюрко-монгольских народов рассмотрел Д.С.Дугаров. В своих статьях на основании историко-этнографических, фольклорных, лингвистических и антропологических материалов ученый выявил орнитозооморфную символику отдельных элементов бурятского женского костюма. При этом, исследователь полагает, что данные элементы «...не имели утилитарного назначения, а носили чисто ритуальных характер и по происхождению были тесно связаны с древнейшими тотемическими воззрениями» (Дутаров, 1983, С. 113).
Таким образом, народный костюм своей выразительной формой, приемами обработки материала, функциональным назначениям несет информацию о времени и месте своего происхождения, о среде, в которой ему предназначено жить. Через эти признаки раскрывается соотнесенность костюма с целостностнои системой предметного мира данной эпохи и народа. В этой системе раскрывается характер взаимодействий его отдельных элементов между собой, а также их соотношения с определенными символами. В зависимости от этих соотношений формируется структура образа народного костюма, также как и материальной культуры, частью которой он и является.
Актуальность темы. В последние годы в области изучения одежды возрос и усилился интерес к исследованию не только традиционного костюма, его отдельных элементов, но и к комплексному анализу в общей системе материальной и духовной культуры конкретного этноса, определенной эпохи. Предпринимаются попытки выявления генезиса одежды от древних форм к современным и влияние культуры соседних этносов на своеобразие одежды данного, конкретного этноса. Продолжается работа по систематизации и обобщению накопленного этнографического материала. Однако, вопросы генезиса и эволюции символа в материальной культуре, трактовки семантического содержания и определения его значимости в одежде остаются малоизученными. Это характерно не только для исследований по бурятскому костюму, но и по традиционной одежде других тюрко- и монголоязычных народов. Малоизученность данной проблемы и возросший интерес к семантике материальной культуры обусловили актуальность предпринятого исследования.
Цель исследования. Основная цель диссертационной работы заключается в выявлении генезиса символического комплекса бурятского женского костюма в контексте традиционных мировоззренческих представлений бурят.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: выявление основных символических элементов в первоначальном виде; установление обстоятельств возникновения, степень сохранности и их отличительные особенности; анализ и структурирование семантического содержания; сопоставление с символикой одежды других народов.
При этом мы не ставили целью дать всеобъемлющую характеристику всей символики, так как эта задача специалистов разных областей.
Объектом исследования является традиционный бурятский женский костюм.
Предмет исследования - символика традиционного женского костюма бурят.
Территориальные рамки исследования - Предбайкалье и Забайкалье - районы расселения бурят.
Методология и методика исследования. Методологической установкой, определяющей общую форму организации, цели и направления исследования являются принципы объективности и историзма. Основные методы, использованные в исследовании: сравнительно-исторический, структурно-семантический, сравнительно-сопоставительный, метод комплексного описания этнографических материалов.
Для успешной систематизации всего комплекса одежды были определены границы этого комплекса и его системообразующие элементы. Как отмечалось выше, вещевая и знаковая сущность непосредственно выражается в одежде, а также в ряде других, так называемых, «периферийных» элементах. К ним относятся, во-первых, «украшения (как наносимые на одежду, так и одеваемые отдельно) и части тела субъекта (волосяной покров, лицо, зубы, ногти, гениталии и т.д.), подвергаемые культурному освоению средствами косметики, различными деформациями и т.д.» (Кузнецов, 1995, С. 35).
Наивные попытки древних людей познать сущность вещей и явлений, закономерности развития природы, определить ценностную ориентацию нашли свое отражение в мышлении и познании человека. Человек, непрерывно взаимодействуя с природой и в ходе наблюдения за ней, замечал свою полную зависимость от нее, пытался познать ее, стихийно отражая диалектическое противоречие природы. Из различных общественных явлений пытались выделить тождественные по основным признакам, выявить главную связь вещей и явлений посредством определения общего свойства.
Согласно традиционным представлениям о вселенной Замба тиб буряты делили ее на несколько миров, расположенных по вертикали: дээдэ замби - верхний мир; дайда дэлхэй - мир земной; доодо замби - нижний мир.
Сообразно этому делению, соблюдая некоторую осторожность, мы разделили женский бурятский костюм на три «уровня»: головные уборы - верхний уровень; плечевая одежда - средний уровень; обувь - нижний уровень и исследовали его с этих позиций.
Источники исследования. Тема диссертации исследована на основе использования источников нескольких видов: отечественные и зарубежные публикации и научные издания по теме исследования; коллекции фондов музея им. Ц.Сампилова, музея истории Буртяии, этнографического музея народов Забайкалья (Улан-Удэ), Кяхтинского краеведческого музея им. В.А.Обручева, лаборатории этнологии и фольклора народов Восточной Сибири ВСГАКИ; материалы национального архива РБ, научного архива БНЦ СО РАН.
В диссертационной работе привлекалась литература по смежным дисциплинам: археологии, фольклористике, языкознанию, теории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, словарные материалы.
Научная новизна работы определяется как выбором малоизученной области, так и предполагаемым подходом к теме. Примененный историко-семантический анализ женского бурятского костюма позволил выявить своеобразие символического мышления бурят, его определяющую роль и значение в кочевой цивилизации народов Центральной Азии. В данном контексте автор рассмотрел процессы происхождения, эволюции и специфики части материальной культуры, относящейся к одежде, получил представление об ее изначальной структуре всего комплекса символов и выявил культурные и экономические связи с другими народами.
Практическую значимость работы автор видит в многоцелевом использовании полученных результатов. Диссертация представляется частью будущей программы исследований по символике традиционной материальной культуры бурят, а, в широком понимании, монгольских и тюркских народов. Результаты исследования могут быть использованы в работах по проблемам этногенеза бурятского народа. Кроме того, основные положения работы представляют интерес для учебных курсов по этнологии, истории Бурятии, истории культуры тюркских и монгольских народов.
Апробация работы. Основные выводы диссертации были апробированы в выступлениях на научно-практических конференциях БГУ (1998-2000 гг.), БРУКИ (2000 г.). По теме диссертации опубликованы две статьи, учебно-методическое пособие, одна статья находится в производстве. Диссертация была обсуждена на заседании кафедры этнографии, этнологии и антропологии ВСГАКИ 17-го мая 2000 г.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и иллюстрированного приложения.
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются цель и задачи диссертации, определяются методы исследования, его научная и практическая значимость.
В главе 1 дается общее представление об истоках возникновения и процессе формирования традиционного комплекса бурятского костюма, в концентрированном виде отразившем космогонические представления насельников Прибайкалья от эпохи палеолита до XVII в.
В главе 2 рассмотрена верхняя женская одежда бурят - халат и безрукавка, локальные особенности покроя, декорирования, раскрыто символическое значение в контексте традиционных представлений монгольских и тюркских народов.
В главе 3 даются характеристики головных уборов, причесок, украшений, обуви, определена их символическая нагрузка в бурятском женском костюме.
В заключении даются основные выводы диссертации.
В приложении приводятся локальные варианты бурятского женского костюма.
Этническая история насельников Прибайкалья и сложение комплекса одежды
Во все времена материальная культура отображала не только окружающую реальность, не мир, сколько картину мира, если «мир» понимать как взаимодействие человека и среды, природы. Природа обычно представляется не как результат переработки первичных данных человеком, а как результат вторичной перекодировки первичных данных с помощью знаковых систем. Иначе говоря, представления о мире не что иное, как модель мира, реализующаяся в различных семиотических воплощениях. Какова была материальная культура народов издавна населявших территорию, прилегающую к Байкалу, каковы были их представления?
Суровый климат определял способы добычи, средств пропитания, устройство жилища, характер одежды. Герметически замкнутое жилище, шкуры убитых на охоте животных служили человеку надежной защитой в окружающей среде.
Все в жизни древнего человека, любое «бытовое действо» как то: разделка туши, крой, шитье, облачение в шкуру убитых на охоте зверей, сопровождалось обрядами, несущими определенную символическую нагрузку. Одежду из шкур животных украшали меховой аппликацией, жгутами и причудливой бахромой. Жгуты и бахрома, вероятно, усиливали внешнее уподобление людей животным, что необходимо было как маскировка в борьбе за жизнь. Кроме того, уподобляясь зверю, человек как бы приобретал качества, присущие ему, - силу, быстроту и выносливость, приспособляемость к природным условиям жизни. Это послужило основой для появления тотемических мифов и воззрений, для первобытной охотничьей магии.
Находясь в зависимости от переменчивой охотничьей удачи, лесные племена дольше сохраняли обычаи и обряды, ведущие свое начало с глубокой древности. Уровень духовного освоения мира может быть определен как социоантропоморфическое. Общество, для которого характерно такое мировоззрение, познает окружающий мир, сознательно или бессознательно перенося на него свойства и качества человеческого общества и собственно человека. «Это почитание не духов гор, рек, озер, а самих гор, рек и озер, т.е. мы здесь наблюдаем не олицетворение, а оживотворение природы» (Токарев, 1947, С. 151).
Движущей силой творчества древнего охотника было его естественное желание все находившееся вокруг, все видимое собрать в единое целое. Синкретизм его мышления заключал в себе множественность связей с окружающей действительностью, ощущаемых подчас интуитивно, вероятно, в силу неотделенности от природы. В пору чисто эмпирических знаний целостное восприятие жизни было возможно только на основе поэтически образного ее обобщения, символизации конкретных предметов и явлений. Как отметил В.Н.Топоров, способность «переводить окружающее в символы и строить параллельный вещному мир символов» оказалось мощным рычагом человеческого познания и самопознания (Топоров, 1972, С. 98).
Чрезвычайный интерес представляет весь комплекс сюжетов из палеолитических стоянок Мальты и Бурети на Ангаре. Данный комплекс наиболее ярко отразил мировосприятие древнего человека и получил дальнейшее развитие в последующих эпохах. Исходным моментом на всех этапах развития искусства было установление особых взаимоотношений людей с окружающим миром. Образы зверей, птиц и рыб чаще всего привлекались в их целостном облике, образ же человека, напротив, очень рано стал предметом расчленения на составные части детали. Иногда заострялись сущностные его функции, подчеркивались определенные действия в каких - либо сюжетных композициях. В то же время именно человеческий образ, как полагают исследователи, стал первичной «моделью мира», может быть еще не до конца осмыслены, но вместе с тем в главных чертах проявлявшийся достаточно отчетливо.
Среди художественных вещей этих стоянок имеются скульптурные изображения одетых в меховую одежду женщин. Это древнейшее в мире изображение шитой одежды типа мехового комбинезона шерстью наружу, плотно облегающая тело с головы до ног. Сравнивая костюм на статуэтке из Бурети
В очертаниях лица особенностями ледниковой эпохи. Плотно облегая тело, такая одежда вместе с тем не стесняла движение и сохраняла внутри тепло, выражение некой загадочности, скульптура напоминает сверхъестественное существо, ассоциирующееся с бурятскими онгонами позднейших эпох. Волосы женщин то падают на плечи сплошной массивной грудой, то уложены параллельными друг к другу горизонтальными рядами; в других случаях они лежат зигзагообразными уступами. Фигура подчеркнуто геометрична; строго вертикальными линиями обозначены руки, ноги, крупная голова с удлиненными щеками, трапециевидным носом. Видимо, с одной стороны, так палеолитические скульпторы увековечили образ женщины - хранительницы очага.
С другой стороны, вертикальная выпрямленность фигуры человека, конкретная значимость, целесообразность ее частей определенным образом осмысливались в практической взаимосвязи их с окружающей природой, в невольном противопоставлении другим живым существам. Возможно, фигура человека уже тогда воспринималась как схожая со стволом дерева, увенчанного развесистой кроной листвы, оживавшей и распускавшейся под воздействием солнечного тепла и света. Не случайно в памятниках древнейшего искусства нередко происходит взаимозаменяемость мотивов человеческой фигуры и дерева. Прообраз же «мирового древа», по мнению В.Н.Топорова, можно увидеть уже в отдельных элементах палеолитического искусства как «некой универсальной концепции, определявшей в течение долгого времени модель мира» (Топоров, 1972, С. 93).
Дальнейшая эволюция образа человека связано с еще большей его схематизацией. Плоскостные парные антропоморфные изображения из могилы Усть-Уда выполнены из бивня мамонта. В рельефно намеченных лицах резчику удалось передать тип «коренного монголоидного населения» Северной Азии (Окладников, 1971, С. 91). Парность этих изображений нередко ассоциируется исследователями с супругами - солнце - муж, луна - жена. Это нашло подтверждение, уже несколько позднее, в космогонических представлениях некоторых народов Сибири. Например, хозяин и хозяйка огня у западных бурят известны под именами Санхала-Хатун и Сахядай-нойон (Хангалов, 1958, С. 407). Изучая парное изображение у алтайцев, Н.П.Дыренкова установила следующую эволюцию: первоначально эменгедеры и орокеннеры были только женскими духами, «праматерями» и всегда представлялись во множественном числе. Позднее, появились парные изображения, обоего пола, т.е. супружеские. Эти изменения она связывает с развитием новой моногамной семьи (Дыренкова, С. 142-143).
Устройство мира первобытному человеку представлялось предельно простым: голубой свод неба прикрывает «бурую землю», т.е. обитаемый мир, как «крыша». При этом «земля» обладала функцией «начала плодородия», являлась источником оплодотворения и жизненных благ. «Небо» - тэнгри воспринималось в виде начала, окропляющего плодоносящую «землю», и, естественно, обретало образ «отца-творца». Все эти образы в идеологии древнего человека были связаны с той ролью, какую играют в самой общественной жизни «мать» и «отец».
Верхняя женская одежда: истоки покроя, художественного оформления и символика
Традиционная одежда бурят была тесно связана с природно-климатическим и хозяйственным укладом. Она характеризуется многими своеобразными чертами, типичными для одежды кочевников, что находит объяснение в их исторически сложившемся образе жизни, связанным с кочевым скотоводством. Также, сохранились и некоторые характерные черты материальной культуры охотничьего быта.
Согласно вышеперечисленным во введении программам традиционная бурятская национальная одежда различается по назначению (повседневная и праздничная), сезону (зимняя, летняя, демисезонная), соответственно полу (мужская, женская), возрасту (детская, взрослая), семейному положению (девичья одежда, одежда замужней женщины).
В качестве верхней одежды буряты носили дэгэл - шуба. Этот термин является общемонгольским, поскольку у монголов дээл - дэли -это шуба, тулуп, халат, устэй дээл - шуба (на меху), у калмыков дэвл -шуба; у монголов Внутренней Монголии: дээл - дэли - шуба.
Издревле верхнюю одежду буряты шили из выделанных шкур диких и домашних животных, а позднее и из покупных тканей, которые приобретались у китайских и русских купцов. Естественно, что сезонные костюмы шились из разных материалов. В старину дэгэл шили из шкуры косули, который назывался hophon дэгэл1. Также зимний дэгэл шили из дымленных овчин - унгэ дэгэл, высококачественной короткошерстной овчины - хгрбэ дэгэл, Y3YYp дэгэл и длиношерстной мерлушки - хуръган дэгэл, hazca дэгэл. Часто белую овчину окрашивали в золотисто-желтый или зеленый цвет (Кочешков, 1973, С. 79), украшали декоративными нашивками, либо наносили орнамент. Кроме овчины на шитье дэгэлов шли шкуры коз. Такой дэгэл назывался ямаан дэгэл - доел, коза-шуба. Использовались также телячьи и жеребячьи шкуры (шугал дэгэл - доел, теленок-шуба, унаган дэгэл - жеребенок-шуба) . Иногда будничную шубу покрывали хлопчатобумажной тканью, а нарядную - тонким сукном или бархатом. Кроме того, шубу покрывалась чесучой, шелком, парчой, атласом.
Демисезонную одежду сэжээ дэгэл готовили из вышеперечисленных тканей, при этом лиф - сэжээ был на мерлушковом подкладе, подол хормой - на вате или на подкладе из бязи, коленкора. Летнюю одежду тэрлиг шили из легких тканей и обязательно на подкладе.
Верхняя одежда - халат или шуба, имела две полы: левая пола лежала на правой и называлась у бурят урда хормой - передняя пола, правая - дотор хормой или зосоото хормой - внутренняя пола, спинка - ара тала - задняя сторона, перед, лиф - сээжэ, борта - энгэр. При этом, верхняя часть левой полы имела своеобразный ступенчатый вырез, который называли квадратным или монгольским (См. приложение 1, 2). Такая манера была характерна для нивхов, удэгэйцев, орочей, нанайцев, тувинцев, алтайцев и для некоторых других народов юго-восточных и южных районов сибирской тайги и их соседей.
В отечественной этнографической литературе основная дискуссия разворачивается вокруг мнений на какую сторону первоначально запахивали полы монгольского, и соответственно, бурятского, костюма. Известно, что кочевники Евразии, древние тюрки, запахивали одежду налево (Вайнштейн, 1991). Есть мнение, что одежда монголов первоначально была левозастежной (Крюков, Малявин, Софронов, 1987, С. 120).
Но имеющиеся многочисленные археологические и летописные материалы говорят о протомонгольской одежде как изначально правозастежной. Так, прямые аналогии монгольскому халату имеются в одежде киданей, о которой говорилось выше. Позволим напомнить, что это была одежда типа монгольского халата с неширокой проймой, небольшим припуском и нешироким рукавом. Застегивался халат наглухо под рукой на правом боку, а вырез ворота делался строго по шее. Воротник был стоячим. Примечательной особенностью, отмечают исследователи, был высокий остроугольный борт энгэр. Такие пропорции и расцветка халатов сохранились и в современном монгольском халате. Одежду киданей ученые относят к формам, бытовавшим у еще более древних протомонгольских племен - южных шивэев, которые, унаследовали от их общих предков - сяньбийцев и ухуаньцев, а те, в свою очередь, от дунхусцев.
Аналогии отдельным элементам монгольской одежды есть у маньчжуров, гиляков, ороков, орочей, китайцев, тибетцев. Широкое распространение такого типа одежды вряд ли может быть объяснено только случайностью. Как было показано на примере дунхусцев, здесь большую роль сыграли древние культурные связи народов Центральной Азии.
Древнетюркская одежда по сравнению с одеждой киданей, шивэев и монголов (т.е. дунхуско-сяньбийской) была как бы зеркальным отражением по манере ношения: ее запахивали на левую сторону, верхний борт, верхняя пола были левыми. Хотя на одном из каменных изваяний у Шонх-Тавын-Тологой, в Матад-сумуне и у аэропорта близ г.Ундэр-хана можно увидеть древнетюркский халат, запахивающийся на правую сторону, как у монголов (Викторова, 1980). На этом халате правая верхняя пола от оси симметрии скашивалась к правой подмышке, а по внешней поле, вороту и правой внутренней поле пришивалась длинная, чуть скругленная полоса воротника, образующая как бы шалевый воротник. Позднее, данный тип халата будет встречаться у многих тюркоязычных народов и мужской одежде западных бурят (См. приложение 3). Этот тип одежды, как отмечалось выше, можно встретить у хунну. Отличительной особенностью данной одежды являются иные пропорции и покрой. Также их отличает меховая оторочка подола, бортов и ворота.
Однако в одежде тюрок и монголов есть и общие черты: плечевая, распашная одежда, которая восходит к накидке из шкур животного. Эта типологическая общность одежды народов Центральной Азии имеет межэтнический характер и объясняется общностью экологических условий. Центрально-азиатский тип одежды сложился самостоятельно, независимо от типа одежды, более северных народов, связанных с таежной зоной Сибири.
Символика головных уборов, прически, украшений и обуви бурят
Головные уборы, поскольку они покрывают голову, как правило, отражают значение того, что происходит внутри самой головы. Густав Юнг считает, что шапка является «венцом» и вершиной личности, и эта идея имеет особое символическое значение. Вопрос о символике головного убора - ключевой и проблематичный для функционирования, истории и символики всего костюма. И, собственно, этой попытке -понять головной убор с точки зрения его связей с прической, одеянием туловища, с обувью, с жизнью человека посвящена эта глава диссертации.
Наиболее устойчивой частью бурятского национального костюма являются головные уборы, мало изменившиеся на протяжении веков. История головного убора тюрко-монгольских народов прослеживается еще с гуннского времени. На каменных изваяниях VTI-IX вв., открытых на территории Монголии, можно увидеть изображения головных уборов, похожие на монгольские, бытовавшие в начале нашего века (Евтюхова, 1952, рис. 59). Исследователи с полным основанием утверждают, что «владычество моды монголам неизвестно» (Кочешков, 1973, С. 141).
Следует отметить, что в бурятском языке термин малгай обобщенно называет головной убор. Поэтому он входит в состав названий конкретных типов шапок. В то же время, как свидетельствуют источники, он является общемонгольским и представлен во всех современных и древних монгольских языках. Так, у бурят - малгай, халха-монголов - малгай, калмыков - махла, дагуров - магал, ордос малага, чахаров - малгаа, в языках Внутренней Монголии КНР - малаг, монгоров - малуа, баонъ малуэ, дунсян мауала. Надеваемые головные уборы различались по сезону, зависели от возраста носившей их женщины, ее семейного и социального положения, причем смысл и значение как своеобразного символа менялись с течением времени. Аналогично мужским женские головные уборы также отражали родоплеменную принадлежность.
По сезону выделялись шапки: убэлэй малгай - зимняя шапка, хабар намарай малгай - букв, весенне-летняя, демисезонная шапка, зуиай малгай - летняя шапка. Нередко в названии головного убора отмечался материал, покрывающий тулью шапки: шэршгг оройтой малгай - шапка с чесучовым верхом, торгом оройтой малгай - шапка с шелковым верхом, магнал оройтой малгай — шапка, крытая китайским узорчатым шелком и мех, из которого она была пошита или, который был использован для отделки: шэлууИэн малгай - букв, рысь-шапка, халюун малгай - букв, выдра-шапка, булган малгай - букв, соболь-шапка, араата малагай - букв, лиса-шапка, волк-шапка, хурьган малгай - букв, ягненок-шапка.
Исследователь бурятского женского костюма Р.Д.Бадмаева выделяет пять локальных типов головных уборов, (Бадмаева, 1987, С. 69-70). Нам представляется целесообразным в соответствии с целью нашего исследования классифицировать головные уборы буряток сообразно форме, которые можно определить как конусовидную, полусферическую и форму усеченного цилиндра.
К I типу - конусовидному - относятся две разновидности: с горизонтальной строчкой и с вертикальной строчкой тульи. В названии зимних и демисезонных вариантов этих шапок отразились особенности покроя: обязательное наличие наушников - хасабша, хасабч и завязок на них - шэгэбшэ. Они назывались - хасабшатай малгай, хасабч малгай (шапка с наушниками), шэгэбшэтэй малгай (шапка с завязками). В названии летних - наиболее точно нашла отражение форма шапки данного типа - конус - тойробшо малгай (конусообразная шапка), шобогор малгай, шобхо малгай (остроконечная шапка).
Первая разновидность данного типа головного убора была «цельнокроенная одношовная: тулья и наушники выкраивались из одного куска ткани» (Бадмаева, 1987, С. 69). В тулье шапки (орой - «верх», тэбэг - «круг у основания»), прокладывалась плотная ткань, с внутренней стороны делали подклад дотор из белой хлопчатобумажной ткани. Края шапки и наушники окантовывались парчой или шелком контрастного цвета. После того как прострачивали и отделывали края покрытия шапки, делали один шов сзади. После этого внутри пришивался мех. В последнюю очередь на самую верхушку пришивалась кисть из скрученной красной нити - залаа. На каждом наушнике пришивался шэгэбшэ - вязочка из цветной тесьмы. Летний вариант состоял из отдельно выкроенных тульи и околыша.
Одним из отличий второй разновидности головных уборов было отдельное выкраивание наушников. Следующим отличием была вертикальная строчка тульи. Для шитья шапки двухслойный кусок материи простегивали, расчертив на усеченные конусы-сегменты - «32 пальца», затем каждый «палец» - сегмент набивали шерстью, после чего края сшивались. Недаром закаменские буряты называли ее 32 хургатай малгай - «32-пальчатая шапка». Иногда тулью делали на клею, чтобы придать ей жесткость и получить четкие рельефные грани. Оторочку зимней шапки делали, как и для первой разновидности головных уборов, из меха рыси, выдры, лисы. Летний вариант шапки имел шелковую оторочку, его шили также конусом из «32 пальцев».
Для обеих разновидностей данного типа головного убора характерна родоплеменная маркировка. Первая разновидность - головной убор хоринских бурят и это было отмечено в шапке: матерчатый верх был простежен 11-ю рядами горизонтальных швов в честь 11 хоринских родов (См. приложение 26), на головных уборах агинских бурят нередко было прошито 8 полос, в честь 8 агинских праотцов отоков-родов. В Монголии, где родовая принадлежность была ярче выражена в костюме, по головному убору с горизонтальной строчкой тульи отличали бурят-баргу (См. приложение 27).
Вторая разновидность этих шапок была принадлежностью костюма южных бурят - сартулов, цонголов и других выходцев из Монголии (См. приложение 28). Такие шапки встречались у представителей монгольских племен (См. приложение 29) и у тюркоязычных народов Саяно-Алтая -тувинцев, алтайцев (См. приложение 2). Характерной особенностью, как уже говорилось, были 32 вертикальные прошивки. Исследователи по-разному трактуют этот факт. А.Позднеев писал, что тулья шапки, а они были самые употребляемые среди лам, покрывалась материей и простегивалась 32 параллельными вертикальными линиями, причем 32 линии символизировали количество Сандуй бурханов. Верхушку шапки украшало плетеное изображение ваджры.