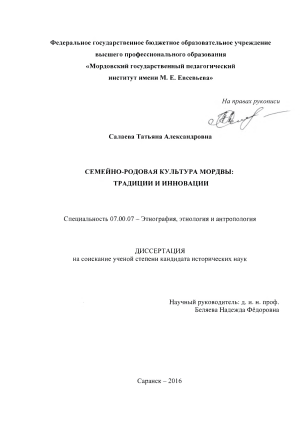Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Социальные институты семейно-родовой культуры 44
1.1. Род и семья как важнейшие элементы формирования семейно-родовой культуры 44
1.2. Культ предков: традиции и формы бытования 78
Глава 2. Структурообразующие элементы семейно-родовой культуры 106
2.1. Социальная регуляция семейно-родственных отношений 106
2.2. Место родовых знаков в семейно-родовой культуре 138
Глава 3. Трансляция семейно-родовой культуры в процессе обрядовых практик и современном искусстве
3.1. Семейно-родовые культы и моления: степень сохранности и форма бытования 164
3.2. Роль праздников и семейных обрядов в сохранении семейно-родовой культуры 184
3.3. Отражение семейно-родовой культуры в современном искусстве 202
Заключение 223
Список использованных источников и литературы 236
- Культ предков: традиции и формы бытования
- Место родовых знаков в семейно-родовой культуре
- Роль праздников и семейных обрядов в сохранении семейно-родовой культуры
- Отражение семейно-родовой культуры в современном искусстве
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Семейно-родовая культура является одним из древнейших институтов в структуре общества, которая складывалась веками. Она была многофункциональна и определяла важнейшие сферы жизнедеятельности этноса. Под влиянием различных факторов социально-экономического, исторического, политического, культурного характера семей-но-родовая культура подверглась существенной эволюции. Тем не менее и сегодня многие ее структурные элементы продолжают функционировать и выполнять определенную этностабилизирующую роль в сохранении института семьи, брака, обычаев и традиций. В этом отношении представляет интерес изучение семейно-родовой культуры мордвы, которая сохранила ряд своих функций по воспроизводству этнических традиций, семейно-родственных отношений, формированию семейно-родовой памяти. На современном этапе важнейшие составляющие семейно-родовой культуры выступают в качестве критериев этнической идентичности и национального самосознания, что в свою очередь стимулировало проявление осознанного интереса к истории своей фамилии, семьи, ее истокам. Изучение генеалогии семьи, рода приобретает социокультурную, историческую, этнокультурную и генетическую значимость. Так, на волне этнического возрождения ряд традиционных семейно-родовых молений мордвы получил государственный статус и рассматривается как средство сохранения национальной специфики, единения мокши и эрзи. Обращение к наследию прошлого и его интерпретация через образы архетипов, в том числе семейно-родовых ценностей, стали основой нового направления в искусстве – этнофутуризма.
Необходимость исследования семейно-родовой культуры мордвы продиктована также стремлением фиксации тех ее элементов, которые способствуют сохранению накопленного положительного опыта в сфере семьи и семейных отношений, этических и этикетных форм общения между поколениями. В условиях поликультурной и поликонфессиональной среды, урбанизации систематизация и осмысление этих элементов имеют не только теоретический, но и практический интерес. Без постижения наследия народа, его истории, образа жизни, менталитета невозможно представить степень этнической самоидентификации в глобальном мировом пространстве, поддержать и обеспечить преемственность поколений.
Объектом изучения является традиционная культура мордовского сельского населения.
Предмет исследования – семейно-родовая культура мордвы, ее структурные элементы, их функционирование в исторической динамике.
Хронологические рамки работы охватывают период с конца XIX столетия до начала XXI века. За этот промежуток времени произошли кардинальные
социально-экономические, политические, идеологические, культурные изменения, отразившиеся на самобытной этнокультурной системе мордвы. В то же время определенная замкнутость, изолированность, консервативность сельского мира способствовали сохранению и передаче существенных элементов этой системы, в том числе семейно-родственной культуры.
Территориальные границы диссертации охватывают современную Республику Мордовия. В то же время при характеристике культуры конца XIX – начала ХХ века мы привлекали материалы и по другим регионам проживания мордвы.
Степень разработанности проблемы. В историографии проблемы условно можно выделить три этапа: дореволюционный (середина XIX века – 1917 год); советский (1917–1991 годы), современный (с 1992 года – по настоящее время).
Первые краткие сведения, касающиеся семейно-брачных отношений, бытового уклада мордвы, нашли отражение уже в работах зарубежных и российских исследователей второй половины XVII–XVIII веков1. Собранные ими материалы дают возможность проследить изменения семейно-родственных отношений и обрядовой культуры в изучаемый период.
Во второй половине XIX века появились монографические исследования П. И. Мельникова-Печерского, В. Н. Майнова, И. Н. Смирнова2, в которых дана широкая панорама важнейших сторон традиционного быта мордовского народа, раскрыты внутрисемейные, общественные, имущественные отношения. В центре внимания данных работ также этические и этикетные нормы, статус и положение членов семьи, их права и обязанности.
Данные о семейно-родственных связях, формах семьи, традициях взаимопомощи нашли отражение в сборниках, епархиальных и губернских ведомостях3. Они позволяют выделить в них общее и особенное в зависимости от расселения мордвы.
Монография С. К. Кузнецова4 интересна тем, что в ней предпринята попытка рассмотреть влияние социально-экономического фактора на семейно-родственные отношения.
1 См.: Witsen N. Nord er Oost Tartarie. Amsterdam, 1692; Паллас П. С. Путешествие по разным
провинциям Российского государства. СПб., 1773–1788; Георги И. Г. Описание всех обита
ющих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жи
лищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1799; Лепхин
И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепхина по
разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. СПб., 1771.
2 См.: Мельников-Печерский П. И. Очерки мордвы. Саранск, 1981; Майнов В. Н. Очерк юриди
ческого быта мордвы. Саранск, 2007; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. Саранск, 2002.
3 См.: Ауновский В. А. Инородческие населенные места Симбирской губернии // Симбир
ский сборник. Симбирск, 1870. Т. 2. С. 150–194 и др.; Минх А. Н. Народные обычаи, обряды,
суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии // Записки РГО. СПб., 1890. Т. 19,
вып. 2; Бурдуков М. Мордва. Этнографический очерк // Мордва Российской империи. Са
ранск, 2014. С. 606–612.
4 См.: Кузнецов С. К. Мордва. М., 1912.
Наряду с этнографическими работами этого периода следует выделить исследования фольклористов5, которые сквозь призму устно-поэтического творчества анализировали традиционные общественные и семейные обряды мордвы, формы их функционирования.
В целом в дореволюционный период были заложены фундаментальные основы изучения отдельных структурных элементов семейно-родовой культуры, определены формы семьи, место и роль культа предков в обрядовой практике.
Новый этап в изучении истории и культуры мордвы начинается в советское время. Его характерной чертой стала связь этнографической науки с практикой социалистического национального строительства и задачами национального, культурного возрождения мордовского народа.
Значительный материал по истории и культуре мордвы, в том числе семейно-родовых отношений, собран М. Е. Евсевьевым6. Им детально проанализированы важнейшие элементы мордовской свадьбы, функции семейно-родственного коллектива, терминология свадебных чинов, обряды приобщения молодой к семейно-родовым ценностям в новой семье, а также основные атрибуты семейно-родовых святынь и формы их бытования. Принципы формирования родственных отношений в контексте сравнительного изучения родства финно-угорских народов, места и роли культа предков рассмотрены М. Т. Маркеловым7. Религиозные верования мордвы в контексте их бытования и функционирования проанализированы финским ученым У. Харвы (Хольмберга)8.
В русле наших интересов следует выделить труды известного этнографа Н. Ф. Мокшина9, в которых дана широкая панорама дохристианских обычаев и обрядов в семейной и общественной жизни мордвы, показан статус родовых и семейных старейшин, место и роль культа предков в похоронно-поминальном обряде, рассматривается происхождение этнонимов, антропонимов и др.
Традиционная крестьянская община и семья как социальные институты, в рамках которых происходило удовлетворение материальных и духовных потребностей, рассмотрены В. П. Тумайкиным10.
3 См.: Мордовский этнографический сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910; Paaso-nen, Н. Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1941. Bd. Ill; 1977. Bd. V.
6 См.: Евсевьев М. Е. Избранные труды : в 5 т. Саранск, 1961-1966; Его же. Мордовская сва
дьба. Саранск, 2012 и др.
7 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды / сост.: О. В. Дулкин [и др.] ; Поволж. центр куль
тур финно-угор. народов. Саранск, 2009 и др.
8 См.: Харва У. Религиозные верования мордвы. Хельсинки, 1952.
9 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968; Его же. Тайны мордов
ских имен : Исторический ономастикон мордовского народа. Саранск, 1991; Его же. Мордва
глазами зарубежных и российских путешественников. Саранск, 1993; Его же. Мифология
мордвы. Саранск, 2004; Его же. Мордва и вера. Саранск, 2005 и др.
10 См.: Тумайкин В. П. Семья и семейные отношения у мордвы Самарской губернии в XVIII-
XIX вв. // Материальная и духовная культура мордвы в ХУШ–ХГХ вв. Саранск, 1978. С. 77-86.
Одной из основных работ, посвященных изучению бытовой культуры и структуры семьи, является монография В. А. Балашова11, позволяющая вскрыть глубинные причины и последствия трансформации мордовской семьи, семейно-родственных отношений.
Традиционная семья и семейные обряды раскрываются в работах Т. П. Федянович12. Жизнестойкость патриархальных традиций увязывается с бытованием больших семей до начала ХХ века.
Структура мордовской семьи середины XIX века, терминология родства проанализированы С. Д. Николаевым13.
Необходимо также отметить исследования фольклористов14. Собранный ими материал служит важной источниковедческой базой для изучения мифологии мордвы, семейно-родовых обычаев и обрядов.
Таким образом, советская историография представлена работами, в которых в наибольшей степени проанализированы структура и форма традиционной семьи, семейные обряды мордвы середины XIX – начала ХХ века. При этом традиционные обряды и обычаи, этические нормы нередко трактовались как пережитки прошлого, противоречащие социалистическим идеалам. Вне поля зрения авторов остались вопросы, связанные с влиянием православия на семей-но-брачные отношения, повседневную жизнь.
В современный период объект и предмет исследований по данной проблеме значительно расширились. Наряду с изучением традиционных социальных институтов, празднично-обрядовой культуры, исторических корней и структуры обычаев и обрядов, семейно-брачных отношений в обычном праве, большое внимание уделялось изучению влияния православия на демографическое поведение мордвы, регулирование семейно-родственных отношений, роли женщины в сохранении семейно-родственных связей, а также анализу социокультурной динамики. Они нашли отражение в работах Н. Ф. Беляевой15,
11 См.: Балашов В. А. Бытовая культура мордвы : Традиции и современность. Саранск, 1992.
12 См.: Федянович Т. П. Семья и семейно-родственные связи как фактор сохранения тради
ции в семейных обрядах (на примере народов Среднего Поволжья) // Семья. Традиции и со
временность. М., 1990. С. 61–65; Ее же. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов
Урало-Поволжья (конец XIX века – 1980-е годы). М., 1997 и др.
13 См.: Николаев С. Д. Система родства // Мордва. Саранск, 2004. С. 375–388; Его же. Мор
довская семья в середине XIX века // Крестьянское хозяйство и культура деревни Среднего
Поволжья. Йошкар-Ола, 1990. С. 134–137 и др.
14 См.: Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964; Кавтаськин Л.
С. Мордовские обряды и причитания при похоронах девушки // Проблемы изучения финно-
угорского фольклора. Саранск, 1972. С. 186–192; Самородов К. Т. Мордовская обрядовая по
эзия. Саранск, 1980; Шуляев А. Д. Жизнь и песня. Саранск, 1986.
15 См.: Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание детей у мордвы. Саранск, 2001; Ее же. Тра
диционные институты социализации детей и подростков у мордвы. Саранск, 2002; Ее же.
Место и роль православия и духовенства в культуре мордвы: традиции и современность. Са
ранск, 2013; Ее же. Русская православная церковь в Мордовии в советский и постсоветский
периоды: от гонения к возрождению. Саранск, 2013 и др.
Г. А. Корнишиной16, А. С. Лузгина17, М. С. Волковой18, Е. Н. Мокшиной19, Ю. Н. Мокшиной20, В. Ф. Разживина21, В. В. Мирошкина22, О. Ю. Булычвой23.
Изучение этнической культуры мордовской диаспоры представлено в трудах Л. И. Никоновой24.
Собранный материал обобщен в коллективных монографиях25.
Мифология, семантика этнической картины, место родовых знаков в пространстве семейно-родственных, имущественных отношений мордвы, отражение традиционной семейно-родовой культуры в современном искусстве стали предметом изучения фольклористов, культурологов26. Среди этнографических
lb См.: Корнишина Г. А. Сезонные обряды мордвы: исторические корни и традиционные формы бытования. Саранск, 1999; Ее же. Традиционно-обрядовая культура мордвы. Саранск, 2007; Ее же. Экологическое воззрение мордвы (религиозно-обрядовый аспект). Саранск, 2008 и др.
17 См.: Лузгин А. С. Жизнь промыслов : Промысловая деятельность крестьян Мордовии во
второй половине XIX - начале ХХ в. (этнокультурные аспекты). Саранск, 2001.
18 См.: Волкова М. С. Культ предков в религиозных верованиях мордвы : автореф. дис. …
канд. ист. наук. Саранск, 2001; Ее же. Культ предков // Вестн. НИИ гуманитар. наук при
Правительстве Респ. Мордовия. Саранск, 2013. № 2 (26). С. 217-220 и др.
19 См.: Мокшина Е. Н. Этническая ситуация в Мордовии на современном этапе. Саранск, 1998;
Ее же. Религиозная жизнь мордвы во второй половине ХГХ - начале XXI века. Саранск, 2006.
20 См.: Мокшина Ю. Н. Брак и семья в обычном праве мордвы. Саранск, 2005.
21 См.: Разживин В. Ф. Народ Мордовии: социокультурная динамика : (первая четверть XX -
начало XXI столетия. Саранск, 2007.
22 См.: Мирошкин В. В. Мордовская крестьянская община в первой трети ХХ века : автореф.
дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2007.
23 См.: Булычва О. Ю. Положение мордовской женщины в семье и обществе в конце ХГХ -
30-х гг. ХХ в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2008.
24 См.: Никонова Л. И., Кандрина И. А., Щанкина Л. Н. Традиционная культура сохранения
здоровья народов, проживающих в Республике Мордовия: историко-этногр. аспект / под ред.
д-ра ист. наук проф. В. А. Юрчнкова, д-ра ист. наук проф. Л. И. Никоновой. Саранск ; Пен
за, 2011. (Народы Мордовии); Народы Мордовии : историко-этногр. исслед. / Л. И. Никонова
[и др.] ; под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрченкова, д-ра ист. наук, проф. Л. И. Никоно
вой. Саранск, 2012; Никонова Л. И. Мордва Владимирской области / Л. И. Никонова,
Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина [и др.] ; под ред. д-ра ист. наук проф. В. А. Юрчнкова, д-ра
ист. наук проф. Л. И. Никоновой. Саранск, 2013 и др.
25 См.: Мордва : историко-этногр. очерки / НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордов.
АССР ; отв. ред. В. И. Козлов [и др.]. Саранск, 1981; Мордва : историко-культур. очерки /
отв. ред. В. А. Балашов. Саранск, 1995; Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре
мордов. народа / гл. редкол. Н. П. Макаркин, А. С. Лузгин, Н. Ф. Мокшин [и др.]. Саранск,
2004; Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа / сост.
С. С. Маркова. 2 изд., доп. и перераб. Саранск, 2012.
26 См.: Девяткина Т. П. Мокшанские свадебные обряды и песни. Саранск, 1992; Ее же. Ми
фология мордвы. Саранск, 1998; Рогачев В. И. Семейно-родовые знаки мордвы // Мордва.
Саранск, 2004. С. 858-875; Мосин М. В. Мордовские языки: настоящее и будущее. Саранск,
2010; Ермаков Н. Эрзянские причитания: традиции бытования и современное состояние.
Таллинн, 2014; Юрчнкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса.
Саранск, 2002 и др.; Шигурова Т. А. Семантика картины мира в традиционном костюме
мордвы : монография. Саранск, 2012; Беломоева О. Г. Этнокультурная традиция в контексте
современной художественной практики // Финно-угор. мир [Саранск]. 2009. № 3. С. 58-65;
Митина В. В. Знаки и символы в этнокультуре мордвы. Саранск, 2011 и др.
работ по финно-угорским народам следует выделить изыскания Г. А. Сепеева, Г. Е. Шкалиной27, В. Е. Владыкина, Л. С. Христолюбовой28, Ю. Ю. Сурхаско29.
В диссертационной работе мы опирались на научные труды этнографов, внесших существенный вклад в разработку проблем, связанных с темой исследования, – В. А. Александрова, С. А. Арутюнова, А. К. Байбурина и др.30 Научный анализ древних пережитков, ранних форм религии, родовой общины и патронимии освещен в исследованиях Э. Тайлора, Н. Н. Харузина, М. О. Косвена, С. А. Токарева31.
Исторический обзор позволяет констатировать, что в этот период многие вопросы, связанные с нашей проблематикой, нашли отражение в работах исследователей. Но в целом семейно-родовая культура мордвы не стала предметом комплексного изучения. Вне поля зрения остались структура современной семьи, степень сохранения и форма бытования важнейших структурных элементов, этические и этикетные формы общения, роль религиозного фактора в семейных обрядах в начале XXI века. Именно эти проблемы составили основу диссертационного исследования.
Целью диссертационной работы является комплексный анализ семей-но-родовой культуры мордовского сельского населения в исторической ретроспективе и современных проявлениях, ее основных структурных элементов, степени их сохранения и форм бытования.
27 См.: Сепеев Г. А. Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование матери
альной культуры (середина XIX - начало XX в.). Йошкар-Ола, 1975; Шкалина Г. Е. Тради
ционная культура народов мари. Йошкар-Ола, 2003.
28 См.: Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов. Общественная и семейная
жизнь. Ижевск, 1997; Их же. Удмурты : Историко-этнографический очерк. Ижевск, 2008;
Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск, 1994.
29 См.: Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985.
30 См.: Александров В. А. Типология русской крестьянской семьи в эпоху феодализма // История
СССР. 1981. № 3. С. 78-88; Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.,
1989; Байбурин А. К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней Азии.
М., 1988. С. 12-37; Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983; Ганская О. А. Семья:
структура, функции, типы // Совет. этнография. 1984. № 6. С. 16-28; Громыко М. М. Место
сельской (территориально-соседской) общины в социальном механизме формирования,
сохранения и изменения традиций // Совет. этнография. 1984. № 5. С. 70-80; Козлов В. И. К
вопросу об изучении этнических процессов у народов СССР (Опыт исследования на примере
мордвы) // Совет. этнография. 1961. № 4. С. 58-73; Его же. Расселение мордвы : (Исторический
очерк) // Вопросы этнической истории мордовского народа. Труды мордовской этнографической
экспедиции. Вып. 1. М., 1960. С. 5-62; Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной
традиции // Совет. этнография. 1981. № 2. С. 78-97; Миненко Н. А. Русская семья на Обском
Севере в XVIII - первой половине XIX в. // Совет. этнография. 1971. № 6. С. 119-127;
Рабинович М. Г. К структуре большой семьи у русских горожан в начале XVIII в. (По
материалам г. Устюжны Железнопольской) // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989.
С. 84-90; Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М., 1979.
31 См.: Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1939; Харузин Н. Н. Знамена у мордвы в XVI и
XVII веках // Изв. Императ. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, со
стоящего при Императ. Моск. ун-те : Труды этнографического отдела. Т. XIV (Т. XCVII.) :
Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера. М., 1900. С. 63-70; Косвен М. О. Семейная об
щина и патронимия. М., 1963; Токарев С. А. Ранние формы религии. М., 1990.
Исходя из поставленной цели нами решаются следующие задачи:
– исследовать основные источники формирования семейно-родовой культуры, выявить особенности их взаимодействия;
– показать роль современной семьи в функционировании семейно-родственных отношений;
– рассмотреть культ предков в пространстве семейно-родовой культуры;
– охарактеризовать принципы формирования системы родства, ее этическую и этикетную специфику;
– проанализировать знаковую систему мордвы как способ закрепления родственных связей;
– выделить традиционные и инновационные способы и формы трансляции семейно-родовой культуры;
– изучить роль и место современного искусства в передаче семейно-родовой культуры.
Источниковая база диссертационной работы включает различные группы документов и материалов. К первой группе источников относятся материалы, извлеченные из Центрального государственного архива Республики Мордовия, которые дали возможность определить степень и направление миграционных процессов среди сельской мордвы в ряде районов Республики Мордовия. Были также использованы уникальные рукописные материалы М. Е. Евсевьева, собранные им в первой половине ХХ века в мордовских селах Пензенской, Самарской и других губерний, хранящиеся в научном архиве НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Они позволили расширить сведения о функционировании обычаев и обрядов, связанных с культом предков, сакральными объектами мордовского жилища.
Ко второй группе относятся статистические данные. В работе привлекаются статистические сборники Тамбовской губернии за 1883 год; данные всесоюзных переписей населения 1970, 1979 и 1989 годов и всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов, статистические сборники, издаваемые Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия. Они дали возможность проследить динамику численности мордовского населения, миграционные процессы, национальный состав, количество сельских поселений, уровень брачности и разводов. Для изучения структуры и состава современной семьи, форм их бытования привлекались похо-зяйственные книги Администраций сельских поселений Республики Мордовия32.
il Национальный состав населения Республики Мордовия, владение языками и гражданство. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года : стат. сб. / Мордовиястат. Саранск, 2013. № 928; Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2014 и др.; Похозяй-ственная книга Администрации Чиндяновского сельского поселения Дубнского муниципального района Республики Мордовия на 2012-2016 гг. № 1–5 и др.
Третью группу источников составляют материалы устно-поэтического творчества33, которые позволили реконструировать архаичные формы некоторых структурных элементов семейно-родовой культуры, религиозные воззрения на жизнь и смерть, свадебные и похоронные обряды.
Четвертую группу источников составляют материалы современной периодической печати, в которых рассматривается место и роль традиционных обычаев и обрядов в сохранении национальной культуры, формировании этнической идентичности34.
Пятую группу источников представляют словари, энциклопедии, справочники, позволившие обосновать и истолковать различные термины, используемые в работе, а также слова и понятия на мордовских и других языках.
Шестую группу источников составляют полевые материалы автора, собранные в 2011–2015 годах в селах Атюрьевского, Темниковского, Дубнского и других районов Республики Мордовия. В ходе полевых исследований проводились этнографические и фольклорные записи, которые помогли изучить и реконструировать многие элементы родовой культуры, обычаи и обряды, этические и этикетные нормы поведения, выявить носителей семейно-родовой культуры, степень сохранения и бытования терминов родства, рассмотреть способы взаимодействия семьи и ее членов, отношения между супругами, отдельными поколениями, родственниками, статус членов современной семьи. Для определения степени функционирования компонентов семейно-родовой культуры на современном этапе в 2015 году было проведено анкетирование среди студентов МГПИ имени М. Е. Евсевьева, в котором участвовало 100 человек, из них 50 – мордва-мокша, 50 – мордва-эрзя. Основной акцент сделан на выявлении отношения информантов к структурным элементам семейно-родовой культуры и степени их бытования. В качестве источника мы также привлекли книжечки для записи имен усопших предков и живых родственников – «Поминание», которые дали возможность определить степень сохранения родственных связей.
Для характеристики национальных обычаев и обрядов, а также изобразительного искусства нами были использованы интернет-источники. В них продемонстрированы различные фотоматериалы, которые позволили дополнить базу данных о сохранении и развитии традиционной культуры мордвы.
В целом имеющаяся в нашем распоряжении источниковая база позволяет не только реконструировать и выявить основные структурные элементы семейно-родовой культуры мордвы, но и показать место и роль в мировоззрении и жизнедеятельности мордвы на современном этапе.
33 Устно-поэтическое творчество мордовского народа (далее УПТМН). Т. 1, ч. 1 : Эпические
и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 и др.
34 См.: Самарская область. Этнос и культура // Информ. вестн. 2005. № 1; 2012. № 2; Финно-
угор. газ. Рос. еженедельник. 2007. № 4, 5; 2010. № 1; 2012. № 4–5 и др.
Научная новизна диссертации заключается в том, что это первое комплексное специальное историко-этнографическое исследование семейно-родовой культуры мордовского сельского населения, ее места в системе жизнеобеспечения этноса. В нем предпринята попытка реконструировать ее основные структурные элементы; определить степень их сохранения и формы бытования. Проведен анализ этических и этикетных норм поведения в семейном и родственном кругу в исторической ретроспективе; показано, насколько они сохранились в сознании и со-ционормативной культуре. Впервые проанализированы принципы внутренней организации системы родства, инновации в мордовской терминологии. Выявлены институты, содействующие сохранению и развитию семейно-родовой культуры на современном этапе. В научный оборот введен значительный объем новой информации, собранной в ходе полевых исследований.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что в ней проанализирован и обобщен широкий круг источников, включая полевые данные, позволяющие получить новые знания по функционированию се-мейно-родовой культуры. Выводы и результаты настоящего исследования могут быть использованы при теоретическом изучении вопросов, касающихся се-мейно-родовой памяти, этических и этикетных аспектов семейно-родственных отношений. Его материалы и итоги расширяют предметное пространство исто-рико-этнографических исследований, дополняют представление о роли и месте семейно-родовой культуры в системе социальных ценностей и жизненных ори-ентаций, а также могут использоваться учеными при написании трудов по этнографической тематике, культурологии, искусствоведению.
Практическая значимость продиктована необходимостью выявления и анализа социально значимых параметров функционирования семейно-родовой культуры. Исследования могут быть использованы при разработке семейной политики, позволят рассмотреть семейно-родовую культуру как ресурс по формированию этнического самосознания, сохранению исторической памяти.
Методологической основой исследования являются принципы объективности и историзма, позволившие комплексно рассмотреть основные структурные элементы семейно-родовой культуры. Использовались следующие методы: компаративный, сравнительно-сопоставительный, хронологический, структурно-типологический, позволившие раскрыть процесс развития национальной культуры мордвы. Активно применялись методы полевой этнографии – интервьюирования и анкетирования, которые дали возможность определить роль семейно-родовой культуры в современной жизни сельской мордвы. Использование генеалогического метода позволило проследить родственные связи, межпоколенную преемственность. Благодаря использованию статистического метода был осуществлен анализ количественных показателей.
На защиту выносятся следующие основные положения исследования:
-
Семейно-родовая культура мордвы была многофункциональна, затрагивала различные стороны системы жизнеобеспечения. На рубеже XIX–ХХ веков семейно-родовая культура определялась патриархальными традициями и обычаями; в советский период происходило сочетание традиционных и инновационных элементов; в постсоветское время семейно-родовая культура подверглась заметной унификации, урбанизации, стандартизации моделей поведения.
-
Источником формирования и развития семейно-родовой культуры являются род и семья, осуществляющие репрезентативную, интегративную, социализирующую, защитную функции и т. д. Трансляция семейно-родовой культуры осуществлялась в больших семьях, сохранившихся до начала ХХ века. В советское и постсоветское время развитие мордовской семьи протекало с особенностями, такими как нуклеаризация, новые формы брака, демократизация семейно-брачных отношений и т. д., что привело к ослаблению ее роли как социального института.
-
Значимыми элементами семейно-родовой культуры мордвы являются культ предков и связанные с ним обычаи и обряды почитания и умилостивления. Мордовскому сознанию при сопоставлении поколений присуще отдавать предпочтение памяти умерших родителей и родственников. Именно в этой сфере наиболее зримо выступали и продолжают выступать семейно-родственные отношения.
-
Важными структурообразующими элементами семейно-родовой культуры мордвы являются родовые знаки, система и терминология родства, которые регулировали имущественные, межличностные отношения, определяли статус и положение человека в семье, этические и этикетные нормы поведения. Если родовые знаки ушли из быта в сферу декоративно-прикладного искусства, то система родства и терминология, этикетные нормы поведения бытуют до настоящего времени и выступают важным каналом передачи семейно-родовой культуры.
-
Одним из способов передачи семейно-родовой культуры являются семейные обряды, культы и праздники. Они определяли мировоззренческую, этнокультурную и этническую позицию мордовского народа. Во второй половине ХХ века появилась тенденция ослабления бытования структурообразующих элементов, снижения их роли в передаче семейно-родовой культуры. В последние полтора десятилетия XXI века в связи с возрождением национального самосознания пробуждается интерес к историческому прошлому, истории семьи, рода.
-
Важным каналом передачи семейно-родовой культуры, родовой памяти служит декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Родовые обычаи и обряды мордвы, религиозные моления и праздники нашли отражение в творчестве мордовских художников, обратившихся в своем искусстве к истории и жизни родного народа. В последние годы широкое распространение получило новое направление в изобразительном искусстве - этнофутуризм. Для него характерен возврат к мифологическим и фольклорным сюжетам, «исторической памяти этноса», где наиболее ярко отражено этническое самосознание народа.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием общенаучных методов (анализ, синтез, обобщение), историко-генетического, давшего возможность реконструировать принципы внутренней организации системы родства, рассмотреть этические и этикетные нормы поведения, сравнительно-сопоставительного, позволившего выявить общее и особенное, истори-ко-типологического, способствовавшего обобщению наиболее характерных черт в семейно-родовой культуре мордвы.
Апробация исследования. Основные положения диссертации, ее выводы и теоретические обобщения изложены в 20 научных статьях, 6 из которых опубликованы в изданиях, внесенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК при Минобрнауки России.
Основные положения диссертации обсуждались на 9 международных (Саранск, 22-24 марта 2012 г., 23-25 мая 2012 г.; Stuttgart, 28 March 2013; London, 22-23 April 2013; Мінск, 25-26 красавка 2013 г.; Сыктывкар, 6-8 мая 2013 г.; Самара, 19-20 сентября 2013 г.; Westwood, October 16th, 2013; Уфа, 12 октября 2015 г.), одной всероссийской с международным участием (Саранск, 17-26 октября 2013 г.) и одной межвузовской (Саранск, 8-15 декабря 2015 г.) научных конференциях, Х и ХI конгрессах антропологов и этнологов России (Москва, 2-5 июля 2013 г.; Екатеринбург, 2-5 июля 2015 г.), XII Международном конгрессе финно-угроведов (Финляндия, г. Оулу, 17-21 августа 2015 г.).
Структура диссертации представлена введением, тремя главами, объединяющими семь параграфов, заключением, списком использованных источников и литературы, приложениями.
Культ предков: традиции и формы бытования
В 1885 году в записках Русского географического общества была опубликована работа В. Н. Майнова «Очерк юридического быта мордвы»2. В центре внимания автора семейно-брачные отношения, статус и положение членов семьи, их права и обязанности. В. Н. Майнов высказал предположение, что «мордва очень рано стала различать лица, происшедшие от одного производителя, как бы далеко от живущих и считающихся роднею, последний ни стоял»3. Исследователь также отметил, что женщина в мордовской семье хотя и не участвует в общественном совете, но она пользуется известным нравственным влиянием на мужа и действует через него4. Он одним из первых обратил внимание на функционирование знаков собственности, служивших способом регулирования имущественных отношений. Им собрано более 150 таких мет, представлена их семантика. Исследуя свадебные обряды мордвы, В. Н. Майнов высказал предположение, что послесвадебный пир свидетельствовал об окончательном примирении родов и установлении родственных отношений. Ученому принадлежала большая роль в изучении мордовской общины. Он выделил ее характерные черты, основанные в значительной степени на спаянности по кровнородственным признакам. Для подтверждения своих выводов В. Н. Майнов широко использует фольклорные материалы, песни, пословицы и поговорки. Ряд суждений исследователя вызывал дискуссии среди ученых, в частности, его высказывания об одобрительном отношении мордвы к несоблюдению девушками целомудрия. Исследователя критиковали за узость источниковедческой базы, обвиняли в мировоззренческой тенденциозности. Тем не менее именно В. Н. Майнову принадлежала большая роль в детальном исследовании самобытной культуры мордвы. В историографии изучения восточных финно-угорских народов особое место занимают труды И. Н. Смирнова. Он одним из первых в процессе исследования поволжских и приуральских этносов выработал свой подход к наиболее важным этапам их исторического развития, материальной и духовной культуре. В 1895 году издана работа И. Н. Смирнова «Мордва»1, значительное место в которой занимает тема семьи и семейных отношений. Автор утверждает, что в древности важнейшим социальным институтом у мордвы была родовая организация, которая под влиянием различных факторов, в том числе семейных разделов, начинает ослабевать. Следует также отметить проведенный И. Н. Смирновым анализ терминологии межличностных отношений мордвы, что способствовало детальному изучению системы родства. Проанализировав термины кровного родства и свойства, исследователь разграничил их на две группы: «свойство по жене» и «свойство по мужу», освещая при этом характер родственной связи. Особое место в работе И. Н. Смирнова уделяется изучению погребального обряда, в основе которого лежал культ предков, являющийся, по его мнению, самым крупным переживанием родового быта. Он обратил внимание на то, что в течение всего существования рода сохранялась непрерывная связь с миром предков, осуществлялись преемственность поколений, передача жизненного опыта и норм поведения в обществе.
Во второй половине XIX века появляются различные публикации о мордве по отдельным губерниям. В контексте нашего исследования заслуживают внимания работы В. А. Ауновского2. Сквозь призму обрядовой культуры рассматриваются семейно-родственные отношения мордвы Пензенской и Симбирской губерний, подчеркивается роль семейно-родственных связей в свадебных и похоронно-поминальных обрядах. В. А. Ауновский подчеркнул участие широкого круга родственников в семейных молениях, праздниках.
В 1890 году в записках Русского географического общества была опубликована статья А. Н. Минха, посвященная обычаям и обрядам мордвы Саратовской губернии1. Автор обратил внимание на функционирование семейно-родственных отношений, которые наиболее ярко проявлялись в свадебных обрядах, общественных и семейных молениях.
В конце XIX - начале XX века среди мордвы проводил свои исследования финский ученый Х. Паасонен2. Изучение мордовских языков, фольклора и этнографии составляет значительную часть его научного наследия. Он собрал образцы мордовской народной поэзии, описал свадебные, похоронно-поминальные обряды. Х. Паасонен констатировал, что этнические традиции сохранились в большей степени в устно-поэтическом творчестве мордвы. Именно через призму фольклора он показывает специфику дохристианских религиозных воззрений, в том числе и культа предков. Однако собранные ученым материалы вышли в свет гораздо позднее в обработке других исследователей.
Многие аспекты семейно-родовой культуры на микроуровне нашли отражение на страницах епархиальных и губернских ведомостей, других изданий. В числе корреспондентов выступали священнослужители, учителя, врачи, которые собирали материалы о культуре и жизнедеятельности инородцев, в том числе мордвы, по специально подготовленным программам. В них содержатся многочисленные сведения этнографического характера о религиозных верованиях, обычаях, обрядах. По нашей проблеме интересный материал содержится в статье М. Бурдукова «Мордва. Этнографический очерк» (1905 г.)3. На примере уфимской мордвы автор показал широкое бытование у мордвы большой патриархальной семьи, которая, по его мнению, во многом определяла материальное благосостояние мордвы.
Место родовых знаков в семейно-родовой культуре
Итогом дробления больших семей стало обособление малых семейных коллективов в рамках больших, а затем и окончательный распад последних. После распада больших семей в обычае мордвы было принято отделять женившихся сыновей, строить им дом на том же участке земли, выделять земельный надел. Первым отделялся старший женатый сын, затем средний. По традиции с родителями оставался младший. В результате сегментации пережиточной формы рода- большой семьи появляется группа близкородственных семей, которая получила в этнографии наименование патронимии. Патронимия (от греч. patronymia - наименование по отцу) - группа родственных больших и малых семей, имеющих определенное хозяйство и общественное единство, общее (по имени основателя патронимии) наименование2. По мнению исследователя бытовой культуры мордвы В. А. Балашова, мордовской патронимии, в отличие от рода, был присущ дуализм частной собственности на сельскохозяйственный двор и скот, но в то же время существовала и коллективная собственность на землю или же на ее определенную часть. При таких хозяйственных отношениях проявилась роль семейно-родственной группы в жизнедеятельности каждой отдельной семьи3. Семейно-родственные группы оказались довольно устойчивой социальной организацией.
Отделившиеся от большой семьи малые (индивидуальные, нуклеарные) семьи не порывали родственных уз и составляли особую родственную ячейку. Главной ее особенностью была не только целостность локализации, но и память об общем происхождении от одного предка, совместное проведение семейных ритуалов и праздников. Выделившаяся семья часто не уходила на новое место, ей строили дом на отцовской усадьбе. У мордвы нередко встречались от трех до четырех изб, расположенных на одной усадьбе в общей связи1. Многотяголь-ность являлась отличительным признаком мордовского двора. Это подчеркивали многие исследователи. Например, В. Н. Майнов отмечал, что «...до сих пор еще можно зачастую встретить по три и даже по четыре избы в одной общей связи, причем слово «кудо», «куд» - «дом» у эрзи и мокши далеко не означает только дом, а весь двор вместе взятый»2. Такие семьи составляли особую родственную ячейку.
Традицию строить дома вокруг жилища родоначальника мы можем проиллюстрировать полевыми материалами, собранными в селах Дубёнского района Республики Мордовия. По рассказам информатора, улица Панькань пя в селе Чиндяново Дубёнского района {Панъка - Паша, Павел, собственное имя представителя рода, пя - улица (э.), улица Паньки) названа в честь предка рода Сала-евых (Солай Панъка). По семейному преданию, когда он возвращался из города с заработков, колесо его телеги застряло в колее. Он увидел в этом добрый знак и на том месте построил дом, состоящий из избы и надворных построек. С увеличением численности семьи в усадьбе был построен еще один дом для второго сына (И. П. Салаева) и его семьи, а старший (В. П. Салаев) остался жить в доме отца. При этом все семьи в данной патронимической организации владели общим земельным наделом и инвентарем. Хозяйством занимались всем семейством, в общую собственность входили также мельница и скотина3.
В селе Чиндяново жили представители других родов, которые локализовались в отдельных кварталах или в конце улиц. Именем главы рода Шакшая названа околица Шакшаевых - Шакшай околъця. В 1897 году в этом же селе крестьянин Алексей Мучкаев со своими сыновьями основали улицу Мучкаинка (улица рода Мучкаевых). Один из представителей этой фамилии В. П. Мучкаев, имевший прозвища Шанжу, Крён (корень), построил дом на другой усадьбе. Являясь богатым крестьянином, он владел мастерской по изготовлению стульев, пашенного инвентаря, амбарами, пчельником, конюшней и имел рабочих. В ходе дальнейшего заселения улицы ее стали называть Шанжу пя (улица старика Шанжу) по прозвищу первого поселенца. Название местности Булдырёвка происходит от прозвища сельчанина А. А. Бутяйкина (Булду), который первым построил на том месте дом более 100 лет назад1.
Родственники сохраняли хозяйственные связи, память о едином происхождении от общего предка, совместно участвовали в различных молениях, обрядах. Одним из основных стимулов сохранения семейно -родовой культуры в рамках семейно-родственных отношений с отделившимися сыновьями было хозяйственное единство, которое наиболее ярко проявлялось в период осенне-полевых работ. Мордва никогда не оставалась безучастной к заботам своих родственников. Оказание помощи воспринималось как традиция, освещенная жизнью предыдущих поколений. Взаимопомощь выражалась в различных формах. Например, вплоть до середины XX века сохранялся обычай совместно обрабатывать свои поля, убирать урожай, при этом соблюдалась определенная дифференциация. Трудную работу брали на себя наиболее сильные мужчины, знающие толк в тех или иных хозяйственных делах. Родственники оказывали помощь при строительстве избы, хозяйственных построек. В период природных катаклизмов, в годы тяжелых испытаний родственная взаимовыручка проявлялась наиболее значимо. По воспоминаниям информантов, к себе в дом брали семьи погорельцев, которые жили там, пока возводилось новое жилье. В случае падежа скота делились мясными и молочными продуктами. Для того чтобы выжить в трудных условиях, несколько семей объединяли людские и материальные ресурсы. Широкое распространение имел обычай брать к себе в дом родных, оставшихся без попечительства, немощных родственников. Их не только содержали, но и с честью провожали в последний путь. На страже соблюдения этого обычая стояло общественное мнение. На бытовом уровне семья, отказавшая в помощи родным, подвергалась осуждению. Долгое время общими для всех образовавшихся при распаде большой семьи малых семей были хозяйственные постройки, к их числу относились баня, гумно, овин, колодец и т. д. Семейно-родственные отношения пронизывали и другие сферы системы жизнеобеспечения мордвы: праздничную, религиозную, семейно-брачную, о чем речь пойдет в других параграфах. Однако, несмотря на устойчивость и определенную консервативность образа жизни, семейно-родовые отношения в конце XIX века стали подвергаться существенной трансформации, что, несомненно, сказалось на состоянии семейно-родовой культуры.
Одним из каналов инкультурного влияния стало отходничество, вызванное упадком натурального хозяйства, дифференциацией крестьянства, развитием капиталистических отношений в деревне, обнищанием и разорением мелких крестьян. Например, если в 1865 году крестьянам Ардатовского уезда было выдано 13 557 паспортов и билетов, в 1884 году - 19 928, то в 1914 году - 31 053 паспорта1. По ряду уездов численность отходников из мордвы была выше, чем у русского населения. Так, в Алатырском уезде удельный вес отхожих кустарей среди мордвы составил 44,5 %, у русских - 33,2 %2. Главным контингентом отходников были мужчины в возрасте от 17 до 60 лет. В то же время в промыслах по изготовлению одежды и обуви в Пензенской губернии, по данным за 1911-1912 годы, участвовало 13,3 % подростков3.
Роль праздников и семейных обрядов в сохранении семейно-родовой культуры
Система родства и существование терминологии немыслимы без семьи, супружеских и семейно-родственных отношений. Изменение семьи, ее структуры, количественных и качественных показателей адекватно отражается и на системе родства. Распад больших семей, их нуклеаризация привели к исчезновению из обихода многих терминов из-за ненадобности, что обедняет словарь мордовских языков. Ряд терминов несколько видоизменился, русифицировался, а бытование других можно объяснить силой привычки. Судя по собранным материалам, в настоящее время сформировалась следующая терминология по восходящей линии - по направлению к предкам: отец - аляй, папкай (м.), тетяй, папкай (э.); дед - атяй, щятяй (м.), покштяй, дедай, бодяй (э.); прадед - сире атяй, сире щятяй (м.), сыре покштяй, сыре дедай (э.), по нисходящей - по направлению к потомкам: сын - цёра (м., э); дочь - стиръ (м.), тейтеръ (э.); внук - унок (м.), нуцъка (э.). В боковой нисходящей линии родства: сын брата, племянник, сын племянника - внучатый племянник (называют по имени); дочь брата - племянница (по имени). Брат отца, дядя - оцяй, дядяй (м.), леляй, дядяй (э.); сын дяди - двоюродный брат, его сын - двоюродный племянник (по имени); двоюродный брат отца, двоюродный дядя - оцяй, дядяй (м.), леляй, дядяй (э.); его сын, двоюродный племянник, троюродный брат (по имени). Тем не менее в сельской местности можно услышать в разговорной речи употребление нескольких имен кровного, биологического родства, типа мазай, мавай, киял, акля, пялъ-не, полай и т. д. Инновации в терминологии выразились и в том, что сегодня одним термином обозначают лица различных степеней родства. Часто при определении степени прибегают не к специальному названию, а используют только описание типа брат жены, сестра мужа и т. д. На рубеже XX-XXI веков стали изменяться термины по отношению к невесткам. Все чаще их называют по имени, и лишь старшее поколение сохраняет традиционное обращение. Весьма значительно сократился и круг родственников. В настоящее время в большинстве случаев родственные связи ограничиваются небольшим числом родных и близких людей. Одна из причин такого явления - расширение территории их прожи вания, что приводит к разобщенности, ослаблению семейно-родственных связей, родовой памяти и традиционной культуры в целом. Многие информанты высказывали сожаление о сокращении числа родственников, ослаблении родственных уз. По их мнению, теперь родные и близкие встречаются лишь во время важных семейных обрядов: свадьба, похороны и т. д.
Из интервью: «На моей свадъбе было более 50 человек, а когда выдавала дочъ замуж, то не набралосъ и 20. Мои братъя из-за отдаленности проживания не смогли приехатъ»1.
Из интервью: «Еще в середине XX века каждый жителъ села знал не толъко троюродных и четвероюродных родственников, но и родственников до седъмого колена. Сегодня круг родных ограничивается двоюродными и реже троюродными братъями и сестрами, дядями и тетками»2.
Высказывания информантов мы можем подтвердить данными анкетирования, проведенного среди студентов МГПИ имени М. Е. Евсевьева. Так, 60 % студентов имеют представление о родственниках, относящихся ко 2-му поколению, 25 % - к 3-му, 5 % обладают минимальной информацией о более дальних родственниках, 10 % о родословной знают мало. Анализ анкет показывает, что студенты лучше осведомлены о материнской линии родства. Например, 70 % респондентов знают родство по материнской линии до 3 поколений, по отцовской - 47 %3. Таким образом, объем знаний о родословной ограничивается рамками 2-3 поколений родства. В настоящее время семейно-родственные отношения стали вытесняться соседскими и товарищескими.
Система родства и соответствующая терминология не только выступали регулятором семейно-брачных отношений, но и определяли положение и статус каждого члена семьи, этические и этикетные нормы поведения. Неслучайно в народе говорили: «Эръва ломантъ сонъценъ вастоц, сонценъ тевонза» (м.) («У каждого человека свое место, свои дела»)1. Вследствие этого мы акцентировали внимание на рассмотрении родства как определенной ценностно-нормативной системы, определяющей место родственного коллектива в социальной структуре общества и соответствующее поведение его членов согласно занимаемой позиции.
В народном сознании этические нормы играли основополагающую роль в обосновании наследования опыта предков. Эти нравственные императивы, которые первоначально регулировали семейно-родственные отношения, впоследствии входили в общий комплекс этических норм этноса, определяли менталитет, способствуя трансформации форм социальной и культурной жизни.
Этическая и этикетная специфика системы родства как часть семейно-родовой культуры в изучаемый период определялась теми же процессами, которые происходили в других сферах жизнеобеспечения мордовского этноса. Она изменялась под воздействием как внутренних, так и внешних причин. Мордва, как и остальные народы, пережила несколько модернизационных и социальных трансформаций, в ходе которых произошли радикальные преобразования, затронувшие традиционную ценностно-нормативную культуру. В рассматриваемый период сложился своеобразный комплекс, сочетающий как традиционные, так и инновационные нормы в виде социальных установок, привычек, коммуникативного поведения. Внутриродовой и внутрисемейный этикет во многом определялся формой семьи, ее структурой, детностью, поколенным составом. Эта зависимость весьма ярко отражена в пословице: «Кодамо семия, истямо кой» (э.), «Кодама семья, стамо ила» (м.) («Какова семья, таков и обычай»)2.
Отражение семейно-родовой культуры в современном искусстве
По обычаю с момента назначения дня свадьбы - шинъ путома (м.), чинъ путомо (э.) невеста начинала по вечерам причитывать, оплакивая свое девиче ство. В это же время ею совершались различные магические обряды, посвящен ные покровителям дома, хозяйственных построек, предкам, чтобы проститься с ними и просить благословение. Для нашего исследования представляет интерес тот факт, что в своих причитаниях невеста поминает прежде всего предков, по хороненных по старой мордовской вере. Это является свидетельством прочного сохранения в сознании и в обрядовой практике дохристианских воззрений: «Васня ливан, куркс саян «Сначала я почту, помяну Эрзянь верань кулытнень, В мордовской вере умерших, Эрзянь верань ёмитнень, В мордовской вере пропавших, Поптомо калмастнень, Без попов похороненных, Диаконтомо служастнень, ... Без диаконов отслуженных, ... Оштё ливан, куркс саян Еще я почту, помяну Рузонь верань кирдитнень, Русскую веру держащих, Поп марто калмастнень С попами похороненных, Диакон марто служастнень». С диаконами отслуженных»1.
Семейно-родственные связи, родственная взаимопомощь весьма ярко проявлялась в обрядах угощения невесты. Накануне свадьбы родственницы навещали ее и угощали специально приготовленной кашей. Этот день так и называется - «день каши» (ям ярхцама ши - м., кашанъ ярцамо чи - э.). Количество принесенных чашек отмечали зарубками на дереве. В зависимости от обширности рода на стол ставили от 15 до 40 чашек этого кушанья. По обычаю невеста из каждой чашки должна была съесть одну ложку и передать подругам и другим родственникам. Во время свадьбы подружки, показывая зарубки, хвалили ее род, его могущество и силу2. Иногда обряд поедания каши невеста совершала, обходя все дома родственнико в сопровождении подруг. Обрядовой каше приписывались магические свойства способствовать богатству, счастью, рождению большого потомства. Данный обряд в измененном виде сохраняется у мордвы-эрзи в некоторых селах Дубёнского района. Невеста готовит кашу и приглашает родственниц и подружек для общей трапезы3.
На родственниц невесты возлагалась также обязанность приготовить специальный пирог для будущего зятя - овонъ пяряка (м.), содамонъ пряка (э.). Его привозили в дом жениха в первый день свадьбы.
Составной частью мордовской свадьбы являлся обряд прощания невесты с родным домом и усопшими прародителями. С этой целью старухи выводили ее на «чистое место» - шукш пря (э., м.), на земле раскладывали пиво, вино, хлеб, соль, мед и начинали поминать умерших, чтобы получить их благословение:
«Покш покштят, бабат, «Прадеды и прабабушки, Улест чанстенк. Да будет ваше благословение. Вана Аннань максынек мирденень, Вот Аннушку мы выдали замуж, Чанстинк паро эрямга-аштемга». Благословите ее на доброе житье»1. Невеста при этом причитывает и просит предков отпустить ее в род мужа и простить все обиды: «Я, прощайте, бодян, прощайте, «Ну, прощайте, деды мои, прощайте, Я, прощайте, бабан, прощайте, Ну, прощайте, бабушки, прощайте, Кува савтовсь, кува эзь, Где угодила вам, где нет, Илимизьгак осудя». Не осуждайте меня»2. Аналогичный обычай существовал у карел. Так, молодушка, прощаясь с семьей, просила прощения у своих близких3. У луговых мари свекор совершал моление по случаю вхождения в дом невесты, чтобы добиться расположения к ней предков4. Невеста-сирота у эстонцев прибрежного острова Кихну также ходила причитать на могилу родителей, просила их встать и помочь ей приготовиться к свадьбе, благословить и принять участие в торжестве5.
В силу уважения к предкам, умершим в старой вере, свадебный поезд, проезжая мимо кладбища, останавливался, чтобы почтить их память.
Мордовская свадьба представляла собой «противоборство» двух основных родовых объединений: рода жениха и рода невесты, которые противостояли друг другу. Демонстрация силы рода отражалась во взаимных корильных песнях, игровых состязаниях. Их функцией являлось смягчение и предотвращение антагонизма между двумя семейными коллективами6. Этим продиктовано широкое участие родственников во всех свадебных застольях. На свадьбу полагалось приглашать родню по материнской и отцовской линиям до седьмого колена. Традиционно у мордвы, как и у остальных финно-угорских народов, в частности у марийцев, удмуртов, карел, свадьба проходила не только в доме молодых, но и у всех родственников. Недаром мордовская свадьба длилась несколько дней, по ка не обойдут все дома. Данный обычай соблюдался у мордвы-мокши вплоть до 80-х годов XX века.
Составной частью свадебного обряда являлся обычай одаривания невестой как своих родственников, так и родных жениха. Вид подарка зависел от степени родства: чем оно ближе, тем ценнее дар. Наиболее престижным подарком являлись вышитые рубахи. Их дарили самым близким родственникам - свекрови, свекру, братьям и сестрам жениха, крестным родителям. По обычаю невеста дарила жениху рубашку, которую он надевал на свадьбу. Весьма ценным подарком считался богато вышитый головной убор. Именно его молодушка преподносила в качестве дара матери своего будущего мужа. У теньгушевской эрзи молодая дарила сороки (головные уборы) свекрови и близким родственницам мужа. У мокши в качестве такого подарка выступала богато вышитая панга (головной убор)1.
Со стороны жениха одаривались лишь самые близкие родственники невесты. Обычай взаимного одаривания служил важнейшим средством укрепления союза между родами. По количеству даров определяли не только трудолюбие и умение невесты, но и в большей степени силу и могущество ее рода. Обычай одаривания родственников мужа являлся неотъемлемым элементом обрядов приобщения молодой к новой семье.
Семейно-родовая культура находила воплощение в обрядах, связанных с вхождением молодой в новую семью и род. Так, по приезде новобрачных невеста вступала в дом жениха с зажженным штатолом, который ей вручал отец во время благословения. Перед тем как войти в избу, она произносила: «Стой, вожжа, стой, уредев, у атявтовых (свекровых) ворот стой, затопите мой штатол, моего тятяя (отца) басловку: в чужой двор со своим светом войду»2. За порогом нового дома свеча невесты немедленно гасилась в стакане вина, и начиналось исполнение молений и ритуалов. Одним из таких обрядов является представление невесты предкам жениха, проходившее у передних ворот или на огороде, которые считались «чистым местом». Для проведения обряда на разостланной скатерти ставили блины, яичницу ал пачалксе (э.), мясо, вино, ведро пива. Невеста в качестве даров предкам приносила несколько кусков белого холста. По сообщению М. Е. Евсевьева, в старину девица дарила покойникам рубашки, кокошники, штаны и т. д.1 Распорядитель обряда, обычно одна из старых женщин, обращаясь к предкам, просила принять молодую в новую семью: «Покштят, ба-бат, чантенк улест, вана саинек урьва, вечкинк, чокшне позда совицякс, валске рана лисицякс, мазы леменк кундыцякс, мода челькенк явавтыцякс. Вана каз-нензэ-ловманзо. Проска баба, вана тенть паця. Иван атя, вана тенть ряднойть понкст. Минь симтянок, ярсатанок, тыньгак симеде, ярсадо. Вана тенк сия вал-донь поила; вана сюро виень поила. Вана лемезэнк панинек пачалксеть, вана тенк сывель...» («Прадеды и прабабушки, да будет ваше благословение! Вот мы взяли сноху - полюбите ее, чтобы она могла и вечером поздно входить в дом и утром рано выходить, ваши красивые имена поминать, земную пыль с вас стряхивать. Вот ее дары-почеты. Старуха Прасковья, вот тебе головной платок. Старик Иван, вот тебе рядные штаны. Мы пируем - пируйте и вы: вот вам цвета серебра напиток; вот от хлебной силы пиво. Вот напекли блинов для вас, вот мясо...»)2. Обычай представления молодой предкам нашел отражение и в лирической песне «Одиръванъ морсема» («Величание невесты»), воспевающей девушку: