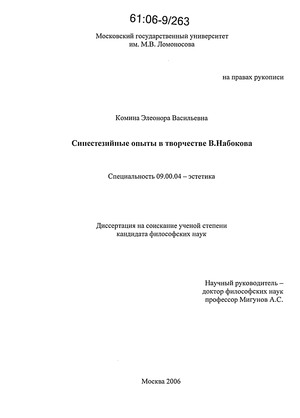Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Творчество в.набокова в контексте искусства XX века 13
1.1. Художественно-эстетическая концепция В.Набокова. 13
1.2. Философско-эстетические аспекты произведений В.Набокова 36
ГЛАВА 2. Феномен синестезии в искусстве и науке . 47
2.1. Развитие идей синестезии в истории культуры. 47
2.2. Проблема синестезии в научном контексте . 60
2.3. Специфика литературной синестезии 70
ГЛАВА 3. Синестезия в произведениях В.Набокова 91
3.1. Телесность и язык в художественном пространстве В.Набокова 91
3.2. «Стереоскопичность» и синестезия. 108
3.3. Эстетические функции синестезии в художественных образах Набокова. 118
Библиография
- Философско-эстетические аспекты произведений В.Набокова
- Проблема синестезии в научном контексте
- Специфика литературной синестезии
- «Стереоскопичность» и синестезия.
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Чем больше мы погружаемся в мир смыслов и значений, которые обнаруживает в себе современное искусство, тем более очевидной становится необходимость их фиксации и изучения с учетом современных научных наработок и тенденций. Характерно, что современное произведение искусства не предлагает исключительно единственную интерпретацию произведения, и важнейшую роль в этой семантической множественности играют такие художественные средства как прием и стиль произведения. Принимая во внимание все многообразие экспериментов и практик в области искусства, связанных сенсорными особенностями человека, а также весь теоретический опыт по проблеме человеческой чувственности, мы обнаруживаем в искусстве и смежных ему областях проблемное поле, которое уже более ста лет а последние годы особенно - привлекает внимание многих ученых и обсуждается в научной и художественной литературе. Речь идет о феномене синестезии, широко представленном в различных видах искусства, в том числе, в литературе.
Будучи не только художественным средством, но и психическим феноменом, присущим человеку в той или иной степени, механизм синестезии не прояснен до конца наукой. Относительно синестезии в науке существуют разногласия и на современном этапе. Остаются не до конца проясненными и эстетические функции синестезии в произведении искусства, что для нас является важнейшей эстетической проблемой.
Особое положение в современной текстуализованной культуре, где явственно обозначен приоритет и первостепенная роль языка, занимает литература. В первой половине XX века в литературе произошли определенные художественные процессы, инициированные культурой модернизма — теоретическими и практическими опытами деятелей
Серебряного века, в особенности А.Белого, а также, творчеством М.Пруста, Дж.Джойса, изменившие эстетические аспекты литературного языка и способы его функционирования. Очевидно, эти изменения оказали определенное интертекстуальное воздействие и на современную постмодернистскую литературу.
Одна из главных особенностей литературы XX века - перенесение в прозу поэтических приемов, в результате чего произошло размывание границы между поэзией и прозой; поэзия и проза, заимствуя друг у друга нехарактерные для них приемы и способы работы с языком, расширили свой художественно-эстетический потенциал. Синестезия, до этого являвшаяся поэтическим средством, прочно вошла в прозу, тем самым, породив в некотором смысле новый литературный тип языка. В.Набоков, будучи уникальным русско-американским писателем, является именно таким автором, воплотившим в своих произведениях чувственно-языковой потенциал. Такой язык насыщен чувственными образами и сенсорными акцентами, кроме того, он отсылает к до-языковому телесному уровню, чрезвычайно нагруженному чувственно-эмоциональными аффектами, несводимыми к вербальному уровню.
На наш взгляд творчество В.Набокова, несмотря на неиссякаемый интерес исследователей и большое количество публикаций, посвященных творческому наследию данного писателя, должно быть рассмотрено в ракурсе эстетики художественного языка.
Объектом исследования являются проблема синестезии в научном контексте, в особенности, литературная синестезия, и творчество В.Набокова в его связи с синестезийной проблематикой.
Предмет исследования - синестезийные опыты в прозе В.Набокова, их художественно-эстетические функции и роль в формировании художественных образов произведения.
Степень разработанности проблемы
Хотя творчество В.Набокова и само явление синестезии достаточно обширно исследуется отечественными и зарубежными учеными, однако проблема синестезии в творчестве Набокова с эстетических позиций исследована явно недостаточно. Большинство работ, в том числе диссертационных исследований, проводилось в области филологии и литературоведения, тогда как в отечественной эстетике синестезия в творчестве В.Набокова в качестве предмета исследования изучалась недостаточно.
Анализ работ в данной области показывает, что в центре внимания, как правило, находятся философские, биографические, мировоззренческие, даже эзотерические аспекты творчества писателя. Например, следующие работы: В.Александров «Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика», Н.Анастасьев «Владимир Набоков. Одинокий король», «Феномен Набокова», В.Ерофеев «Русская проза Владимира Набокова», «Русский метароман В.Набокова, или в поисках утраченного рая», Б.Носик «Мир и Дар Набокова», С.Шифф «Вера (Миссис Владимир Набоков)», К.Проффер «Ключи к «Лолите», а также статьи и монографии Ю.Левина, Б.Бойда, А.Аппеля, Дж.Апдайка, А.Злочевской. Наличествуют многочисленные статьи и эссе, как современников Набокова - З.Шаховской, Н.Берберовой, В.Ходасевича, Ю.Айхевальда, М.Слонима, Г.Струве, М.Маккарти - так и современных авторов в лице М.Шульмана, П.Кузнецова, Л.Рягузовой, Л.Прокофьевой, Н.Букс, Г.Шапиро, С.Давыдова и других.
Однако, за редким исключением, к вопросу о синестезии Набокова, исследователи не обращаются либо уделяют этому недостаточно внимания, либо интерпретируют синестезийные аспекты творчества Набокова не с эстетических позиций, а с психологических или метафизических. На наш взгляд, этот аспект имеет важное эстетическое значение, поскольку художественный смысл и значение набоковских текстов зачастую формируется на уровне синестезийных связей и ощущений. Среди авторов, затрагивающих синестезийную тематику в произведениях В.Набокова,
следует отметить следующих: Ю.Левин, Ю.Лотман, Г.Рахимкулова, Л.Прокофьева.
Творческое наследие В. Набокова не ограничивается только художественными произведениями; писатель оставил множество статей, эссе, интервью, в которых неоднократно затрагивал как тему синестезии, так и другие, сопутствующие ей темы. Особо обращают на себя внимание лекции Набокова по русской и зарубежной литературе, где писатель в качестве теоретика и критика анализирует произведения мировой литературы, выстраивая свою собственную литературную концепцию и концепцию искусства вообще. Художественные произведения Набокова так же содержат в себе определенный философско-эстетичекий пласт. Все это дает нам возможность анализа не только художественных произведений писателя, но и его философско- эстетической концепции.
Необходимо обратиться и к теме самой синестезии, поскольку эта тема несколько проблемна для науки на современной этапе, несмотря на то, что в данном исследовании не ставится задача ее разрешить. Здесь обращают на себя внимание такие авторы, как Б.Галеев, С.Эйзенштейн, А.Лурия, А.Бинэ, И.Ермаков, П.Гроссенбахер.
Кроме того, заслуживает более глубокого изучения литературная синестезия, ее механизм и эстетический анализ, тогда как в основном эта тема представлена психологическими и лингвистическими разработками. Обращает на себя внимание научная ценность работ Р.Якобсона, неоднократно обращавшегося к теме синестезии в языке, а также к теме звука и смысла. Также работы П.Флоренского в области лингвистики содержат в себе ряд моментов, связанных с темой вербальной синестезии. Касается темы литературной синестезии в своих многочисленных работах по синестезии и Б.Галеев. Кроме того, представляют интерес работы Д.Деррида, Ж.Делеза, М.Ямпольского, В.Подороги, Ю.Помигуева, затрагивающие тему синестезии и чувственно-телесный аспект языка.
Рассматривая проблему вербальной синестезии нельзя не обратиться к психологическим аспектам языка и теме языка и телесности, в связи с чем автор исследования обратился к работам Л.С.Выготского, Ж.Лакана, Э.Газаровой, М.Мерло-Понти, Л.Веккера.
Анализируя проблему синестезии в творчестве Набокова в эстетическом срезе, мы выходим на общеэстетический уровень смысла произведения, вот почему необходимо обратиться к авторам, поднимавший подобные вопросы в своих работах. Здесь автор исследования обращается к работам М.Бахтина, Ю.Тынянова, Ю.Лотмана, Р.Барта.
Таким образом, данная тема требует достаточно многостороннего теоретического освещения, что определяет цель и задачи исследования.
Цели и задачи исследования
Цель диссертационного исследования состоит в выявлении сипестезийного уровня в прозе В.Набокова как глубинно-языкового, от которого непосредственно зависит эстетический смысл художественных произведений.
Достижение данной цели ставит следующие задачи:
- проанализировать эстетические идеи В.Набокова, отразившиеся в его художественном творчестве и теоретических работах с тем, чтобы выявить эстетическую концепцию писателя;
- проанализировать развитие понятия и идеи синестезии в культуре и науке;
расставить акценты в современных научных вариантах интерпретации феномена синестезии;
- подробно проанализировать механизм вербальной синестезии с учетом данных лингвистики, философии и психологии;
- показать, что синестезия есть сущностное свойство языка, латентно постоянно присутствующее в нем и проявляющее себя;
- продемонстрировать глубокую связь языка и до-языковых телесных структур, обнаруживающую себя в прозе В.Набокова;
- выявить эстетическую специфику прозы Набокова как свойство «стереоскопичности»;
- определить функции синестезии в произведениях Набокова. Методологические основания диссертации составляют принципы
проблемно-исторического и сравнительно-эстетического анализа предмета исследования. Они позволили проанализировать феномен синестезии в культурно-историческом аспекте, а также выявить основные современные подходы к данному объекту. Кроме того, данные принципы были применены при анализе философско-эстетических аспектов произведений В.Набокова, а также при анализе основных концептов эстетики писателя.
Использование компаративного метода позволило провести исследование литературной синестезии в нескольких научных областях, что дало повод к обоснованию вывода о наличии синестезийного механизма, лежащего в основании естественного языка. Синестезия художественного языка определенным образом отличается как по функции, так и по форме от синестезии, латентно присущей обыденному языку, но при этом коррелирует с ней, чем и порождается определенный эстетический эффект.
Главным методологическим принципом данного исследования является переосмысление сложившихся отношений между эстетикой, антропологией и психологией в вербальной области вообще и, в частности, в области художественного языка. Это подразумевает определенную проблематизацию на границе взаимодействия эстетического, физиологического и лингвистического полей через синестезию, что ведет к расширению эстетического пространства в акте художественной перцепции литературного произведения.
Научная новизна диссертации состоит в осуществлении философско-эстетического анализа синестезии в прозе В.Набокова с позиций современного научного знания в сфере литературы и языка. Литературная синестезия рассматривается с учетом данных современной лингвистики и философии, из чего выводятся ее эстетические функции и эстетика
произведений Набокова вообще, обладающих чертой «стереоскопичности» и «многопланности». Эта черта, усложняющая восприятие произведения, порождает художественный эффект «кинематографичности» прозы Набокова. Кроме того, в отношении творчества Набокова исследуется проблема вербальности/невербальности, отсылающая к телесному уровню доязыковых импульсов. В исследовании показывается тесная взаимосвязь этих двух уровней и их связь с синестезией, являющейся промежуточным звеном, тесно соединяющим эти уровни при эстетическом восприятии. Положения, выносимые па защиту:
1. Творчество В.Набокова обладает подчеркнутым «эстетизмом» и художественностью; это продиктовано философско-эстетической концепцией писателя, в которой искусство понимается как некий универсальный принцип бытия. Такой статус искусства проявляет себя через художественно-формальную сторону, которая одновременно является смысловой - вот почему анализ творчества Набокова должен быть на уровне эстетического анализа языка, а не только на уровне философских идей произведений. По той же причине В.Набоков приписывает всеобщие характеристики таким выделенным им проявлениям искусства, как игра, мимикрия, «оптический обман», «узор», «ковер времени». Эти понятия- образы функционируют в эстетике Набокова в качестве эстетических категорий. Все остальные сферы - этическая, социальная, религиозная, политическая есть лишь производные от эстетической, поэтому их разрешение как самостоятельных проблем в творчестве писателя явственно не обозначено. Художественный язык произведений В.Набокова, способы его функционирования в тексте имеют исключительное значение. Стиль, структура, прием, образ, синестезии - все это определяет эстетическую сущность искусства и отражает его высший смысл.
2. Синестезия является по своей сути чувственно-психическим механизмом, присущим любому человеку в той или иной степени. В различных эмоционально-аффективных переживаниях человек постоянно
«скатывается» в состояния, близкие архаичным, когда ощущения и чувства не были дифференцированы, а являли собой целостное межчувственное ощущение. Такие состояния наиболее близки детям, душевнобольным, эмоционально неустойчивым людям, в том числе творчески активным. Но синестезия как психический механизм постоянно присутствует на чувственном уровне любого человека. Действие этого механизма, его перманентно-латентную сущность наглядно можно проследить на функционировании языка, то есть на вербальном уровне. Это касается не только литературного языка, в котором явственно выступают эстетические аспекты и где синестезия имеет подчеркнуто художественно-образный характер, но и обыденного языка. Развитие речи у ребенка, овладение смыслом слов и звуков всегда сопровождается синестезией, и в дальнейшем в скрытом виде присутствует в психике взрослого. Поэтому реципиент способен воспринимать и продуцировать художественный смысл синестезийного произведения, даже если он не считает себя синестетом. На этом во многом строится акт коммуникации между синестезийным произведением и реципиентом.
3. В истории искусства есть авторы, которых общепринято считать синестетами: В.Набоков, А.Скрябин, В.Кандинский, А.Рэмбо, Ш.Бодлер и другие. Однако на скрытом уровне синестезия присутствует у любого автора, поскольку любое произведение активизирует глубинные чувственные связи реципиента. Литература в качестве художественнообразующих использует такие «музыкальные» методы как ритм, мелодика, интонация, звуковые диссонансы и ассонансы, полифония, которые, безусловно, обнаруживают синестезию как одну из образующих эстетический смысл произведения. Кроме того, восприятие произведений различных авторов всегда сопровождается синестезийными реакциями - как «размеренного», «тяжеловатого», с «умеренными красками» у Л.Толстого; «легкого», гармонично насыщенного «музыкой и цветом» у А.Пушкина и т.п.
4. Синестезийный характер языка произведений В.Набокова, его подчеркнутая телесность определенным образом оказывает влияние не только на эстетический эффект произведения, но и на его смысл. Учитывая телесные интенции языка, его тесную связь с телесностыо, можно говорить о телесной компоненте в эстетической реакции на произведение. Это особенно актуально для прозы Набокова, чтение которой, как неоднократно подмечалось исследователями, протекает на телесном уровне и связано с «физиологическим удовольствием». Поскольку изначальный смысл эстетического есть «чувственный», на что постоянно обращал внимание Набоков, мы наблюдаем в его творчестве соединение этого буквального смысла и смысла эстетического в современном научном понимании. Это создает уникальное художественное пространство автора, определяемое стилем, частью которого является синестезия.
Теоретическая и практическая значимость диссертации. Настоящая диссертационная работа представляет собой попытку философско-эстетического освоения темы синестезии в творчестве В.Набокова, в большей степени разработанной в филологической и литературоведческой сферах. Проблема литературной синестезии рассмотрена в работе с привлечением современного философского, психологического и лингвистического материала, что дает возможность аргументировать теоретические положения, выдвигаемые в диссертации.
В работе по-новому раскрывается тема чувственно-телесных аспектов литературного языка В.Набокова, основанная на современных философских работах по данному вопросу.
Материалы и полученные выводы диссертации могут быть использованы при чтении курсов по эстетике литературы, по эстетике творчества В.Набокова, при разработке спецкурсов, посвященным рассмотренным в диссертации проблемам синестезии, вербальной синестезии, эстетическим воззрениям В.Набокова, телесности литературного языка Набокова, эстетических функций синестезии. Также материалы и
полученные выводы могут применяться при анализе творчества Набокова в частных случаях.
Апробация работы.
Основные положения и выводы диссертации нашли свое отражение в научных публикациях и были представлены на международной научной конференции «Экспрессия незавершенности» (октябрь 2002 г.) Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры эстетики философского факультета МГУ 14 ноября 2005 г. протокол № 5 и 13 февраля 2006 г. протокол № 10.
Структура работы определена целями и задачами исследования. Диссертация включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы. Общий объем диссертационного исследования — 140 страниц печатного текста.
Философско-эстетические аспекты произведений В.Набокова
Вопрос о философско-эстетических аспектах любого из произведений искусства всегда некоторым образом связан с вопросом ценности этого произведения. Иначе говоря, это ответ на вопрос, почему и чем произведения того или иного художника заслуживают внимание исследователя. Это, в свою очередь, подразумевает определенный культурный статус данных произведений. Нет нужды говорить, что Набоков как писатель неоднозначен в этом отношении. Поэтому есть необходимость в рамках данного исследования коснуться этого вопроса, тем более что он имеет отношение к синестезийному аспекту набоковского творчества.
Традиционно подобный вопрос рассматривался в сюжетно-содержательном плане. В данном параграфе будет сделана попытка рассмотреть его в литературном плане вообще, то есть, касаясь и языкового уровня. Очевидно, что в данном случае стиль произведений со всеми присущими ему игровыми приемами, пародией, цитатностью, синестезиями является содержательным аспектом.
Игровой характер произведений Набокова всегда отмечался критиками и исследователями. Игра для Набокова - это основополагающий принцип искусства, поэтому игра в его прозе исполняет роль эстетически образующую. Эстетика игры играет определяющую роль в концепции творчества Набокова: «прием разгадывания - доминантный в поэтике писателя, а организация игровых отношений с читателем входила в его творческий замысел» , отмечает А.Злочевская. Установка на разрешение ребуса, загадки дана изначально в произведениях писателя - помимо чисто «сюжетных» загадок -исчезновение Лолиты и поиски Гумберта ее таинственного похитителя; загадка о личности женщины, которую решает сводный брат Себастьяна Найта; способ реализации убийства Драйера в «Король, дама, валет» и т.д. -проза Набокова изобилует множеством металитературных загадок в виде реминисценций, аллюзий, анаграмм, каламбуров, пародии, синестезийных соответствий.
Отчасти, это находит выражение в различных авторских аллюзиях и реминисценциях, которые могут выполнять различные функции и качественно отличаться. К примеру, изучая тексты Набокова, мы, безусловно, имеем дело с так называемыми сознательными аллюзиями и реминисценциями, которые художественно функциональны и требуют «разгадки», «расшифровки» со стороны читателя, своего рода «ловушки автора». Предполагается, что, упустив их, не обнаружив или проигнорировав, читатель столкнется с проблемой интерпретации текста, в результате чего нарушится или не состоится коммуникативный процесс автор-читатель. Но существуют аллюзии и реминисценции и другого рода: те, о которых автор не отдает себе отчета; образы, сюжеты, приемы, а если говорить вообще, то это реакция на всю предыдущую культурную и литературную традицию, «диалог» писателя с существующими литературными формами, по М.М.Бахтину. Для современной западной философии и литературоведения эта ситуация значится как «интертекстуальность».
Ю.Кристева, вводя этот термин, обозначила, что «всякие текст представляет собой пермутацию других текстов, иитертекстуальность , в пространстве того или иного текста перекрещиваются и нейтрализуют друг друга несколько высказываний, взятых из других текстов» 1 . Но более устоявшееся и принятое определение интертекстуальности дал Р.Барт: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом т. д. - все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» ] . Весь этот «неавторский» слой, выполняющий функцию текстуальной организации, безусловно, важен и в отношении эстетики. Взаимопроникая и взаимодействуя, оба вида аллюзий способны порождать так называемые «индивидуальные» аллюзии и реминисценции, читательские, могущие не иметь прямого отношения к авторским «ловушкам» и отсылкам. Но ценность их заключается в том, что они дают возможность связанной интерпретации произведения, создают новый контекст и эстетическое пространство частично нового качества. Многие современные литературоведы и эстетики считают, что только процесс сообщения текст-читатель в конечном итоге и имеет значение, поскольку так производится смысл, непрочитанные же намерения автора в процессе смыслопорождения попросту не существуют. «Только чтение, восприятие в итоге и могут явиться полем научного исследования, поскольку текст существует единственно в восприятии зрителей и читателей (а не в интенциях автора) и потому, что только в чтении производится смысл»2. В процессе чтения мы конструируем наше понимание, восприятие читаемого, мы выстраиваем смысл, исходя из наших эстетических реакций. В текстах Набокова эта работа усилена тем, что автор не дает нам «объективного видения», здесь мы не видим мир привычными глазами традиционного романа с его пространственно-временными клише и языковыми оборотами, к которым читатель как бы готов априори.
Проблема синестезии в научном контексте
Что же такое, в таком случае, синестезия? Обрисовав ситуацию в искусстве и то, как развивались синестезийные идеи в теории и практике, мы не ответили на вопрос в чем же суть данного феномена. На это есть причины, и главная из них - та, что наука до сих пор не определилась с тем, что есть синестезия. Это вопрос не столько эстетики, которая занимается исследованием эстетических аспектов данного явления и выявлением синестезий у того или иного автора. В большей степени это проблема психологии и философской антропологии, но трудность заключается в том, что с синестезией постоянно сталкиваются лингвисты, семиотики, эстетики, музыканты, литературоведы и т.д. Поэтому опыт, накопленный при изучении данного феномена такой различный, разнородный и порой противоречивый. В последние годы интерес в данному феномену обострился как в научной среде, так и в популярно-публицистической. С одной стороны, это связано с развитием психологии, психологических и философских концептов сознания и мозга; с другой, важную роль сыграли различные опыты в искусстве, экспериментирующие с чувственным аспектом психики. Это не только синтез искусств, но и заимствование одним видом искусства специфики другого, применение на практике его методов; это максимальное развитие чувственно-формальной стороны произведения искусства.
Дело еще в том, что синестезией называют, во-первых, сам психический феномен; во-вторых, результаты его проявления в различных областях искусства и обыденной жизни. Иначе говоря, синестезия - это не только то, что встречается в искусстве; есть данные о том, что среди детей и людей с неустойчивой психикой много синестетов, встречаются синестеты и среди так называемых «обычных» людей. В искусстве синестезией называют, например, пространственные, цветовые, вкусовые образы, вызванные музыкой и литературой, или звуковые образы, вызванные визуальными искусствами и т.д. Сюда же относят поэтические тропы, стилистические фигуры в языке. В-третьих, иногда к синестезии причисляют и взаимодействие между искусствами, так как оно осуществляется на синестезийной основе. Например, такие искусства, как светомузыка, музыкальные абстрактные фильмы, музыкальная живопись есть всецело «синестезийные» искусства, появившиеся вследствие развития синестезийных идей.
Природа синестезии спорная, в науке нет единого мнения на этот счет. Существует несколько версий сущности данного феномена.
Уже в XIX веке появилась точка зрения, рассматривающая синестезию как аналогию, то есть метафору. Такое понимание синестезии оказалось очень устойчивым, оно остается в силе и по сей день. Б.Галеев, один из наиболее известных специалистов по синестезии в эстетике, настаивает, что синестезия «по психологической своей природе ... есть ассоциация, конкретно — межчувственная ассоциация, она может быть пассивной, либо активной (творческой), с разной степенью переживания». Но, например, еще в начале XX века психолог И.Ермаков настаивал на антиметафорическом понимании синестезии. Он говорил, что следует различать аналогии и синетезии, аналогия всегда беднее и поверхностней синестезии, ее смысл в переносе, легко уловимом сознанием. Синестезия же затрагивает глубинные психические процессы и не может быть легко понятой. Как пример он приводит эпизод из рассказа В.Г.Короленко «Слепой музыкант», где Максим объясняет слепому Петру значение выражения «красный малиновый звон». Ермаков отмечает, что в данном случае речь идет «о простой аналогии, а не о цветовых восприятиях, которые слепому не могут быть известны»1.
Синестезийные опыты В.Кандинского были реализацией его философско-эстетической программы, концепция которой имела в виду обязательное наличие глубинного инварианта - «первичных элементов искусства». «Вариативность творчества, в том числе синестезийного, возможна лишь при условии существования глубинного варианта, от которого, как от ядра, идут истечения цвета, звука, слова, движения, оформленные уже в дальнейшем в произведения того или иного вида искусства» - отмечает А.С.Мигунов в статье о творчестве Кандинского. Психоделические опыты и применение их в искусстве опираются на синестезию и на подобные инварианты. Например, трансперсональная психология С.Грофа3 наглядно демонстрирует такой подход. Сам Кандинский на вопрос об ассоциативном источнике синестезии ответил отрицательно. Для него источник синестезии в «первичных элементах» искусства.
Б.Галеев считает, что в основе синестезии лежит сравнение, сопоставление, иначе говоря, ассоциирование. Синестезия - это «взаимодействия в системе чувственного отражения» 4 . Механизм синестезии - это системы, сложные и многослойные «по сходству эмоционального воздействия» и «сходству структуры»5. В основе взглядов Б.Галеева на природу синестезии лежит теория «отражения», согласно которой чувства и ощущения есть субъективное отражение объективной реальности. Поэтому восприятие - важнейший компонент, участвующий в синестезийном процессе - предметно, связано с мышлением и словом; Галеев подчеркивает, что синестезийные образы носят сознательный характер, что весьма спорно, а в некотором смысле, противоречит данным современной психологии.
Специфика литературной синестезии
Очевидно, что литературная, вербальная синестезия имеет ряд особенностей, отличающих ее от других видов синестезий, к примеру, зрительной или слуховой, где задействованы непосредственно органы ощущений при реакции на какие-либо внешние проявления, иначе говоря, первая сигнальная система. Но вербальная синестезия имеет дело с таким сложным материалом, как слово. Напомним, что слово представляет собой элемент второй сигнальной системы, в которой содержится рефлексивный момент, отражающий реакции первой сигнальной системы и тем самым как бы заменяющий «реальное пространство». Таким образом, слово действует как знак огромной семиотической системы языка. Одновременно слово является эмоциональной реакцией на внешнее воздействие, поэтому в нем всегда значителен экспрессивный пласт. Последнее особенно важно для создания и восприятия эстетического вербального пространства. Так возможно искусство слова, в котором, благодаря развитию звукообразных средств и стилистических приемов, слово всегда полифункционально и потенциально обладает большим диапазоном смысла. Как отметил Б.Галеев: «наиболее заметно и весомо действие синестезии ... проявляется в языке, речи и в художественном общении»1. Принцип НЛП во многом базируется на синестезийном механизме - НЛП строится на изучении человеческих сенсорных особенностей и их проявлений в языке и межличностном общении. Основатели НЛП Гриндер и Бендлер видели конечной целью НЛП развитие сенсорных модальностей и обнаружение экстрасенсорных каналов восприятия информации.
Вербальную синестезию еще в XIX веке многие исследователи и художники называли «цветным слухом», в том числе, и В.Набоков. Также встречается термин «звукосимволизм», или «синопсия», например, его используют Л.П.Прокофьева, Е.Г.Сомова, О.Д.Кулешова в своих работах, посвященным проблемам вербальной синестезии. По сути, синестезия и звукосимволизм в данном контексте идентичные по смыслу понятия: «Звукосимволизм возможен благодаря способности человеческого мозга устанавливать ассоциативную связь между звучанием и значением. Эта способность определяется предметностью и полимодальностыо человеческого восприятия» . С нашей точки зрения, более корректно использовать термин синестезия, поскольку, во-первых, по смыслу синестезия охватывает гораздо больший круг межчувственных проявлений, а во-вторых, использование термина «звукосимволизм» явно отсылает к устойчивым символическим паттернам в культуре, что в синестезии может не проявляться или наоборот, противоречить. То есть в некотором смысле звукосимволизм и синестезия противоположны, поскольку индивидуальный фактор играет исключительное значение в синестезии, особенно художественной.
Можно сказать, что литературная синестезия возникает как представление на основе представления. Неизбежная синестезийность языка -его сущностный признак. «Очистить» язык от многозначности и образности невозможно - как известно, в начале века Венский кружок намеревался осуществить такую попытку в рамках научного языка.
Как заметил Ж.Деррида, «проблема языка, как бы ее не понимать, никогда не была такой, как все. Но сегодня, как никогда, она как таковая заполонила собою весь мировой горизонт самых различных исследований и самых разнородных ... речей» .
Эта проблема занимала и продолжает занимать многих авторов. П.Флоренский в своей работе «Мысль и язык» уделяет большое внимание теме смысла и звучания слова. Слово есть не просто рациональный способ передачи информации, но это и конкретные образы, художественные произведения в малом размере: «каждому слову, а равно и сочетаниям их, непременно соответствует некоторая наглядность...» . Очевидно, что особенно это присуще художественному словесному творчеству - литературе, где художественно-экспрессивные аспекты языка не только доминируют над чисто прагматическими, рациональными, но, по большому счету, выполняют содержательную функцию.
«Стереоскопичность» и синестезия.
Синестезийный эффект прозы Набокова дает ей особое свойство-стереоскопичность. Синестезия произведений Набокова - это поэтика смешений, просачиваний, многопланность мышления, для которой характерно зрительно-тактильное, как бы «вещное» представление, акцент на ощущениях. Делая прозу Набокова многомерной, стереоскопичность сближает литературу с кинематографом. Эту особенность, тесно связанную с синестезией, можно рассматривать как своего рода кинематографичность набоковской литературы.
Неоднократно замечалось исследователями, что проза Набокова располагает к кинематографической интерпретации, поскольку обладает особой чувственной выразительностью и образностью, а также и достаточной нарративностыо для реализации сюжетной линии. Более того, проза этого автора сама по себе «кинематографична», то есть произведение не только располагает к кинематографической трансформации, но в своей литературной форме уже содержит приемы, присущие киноискусству. Отправной пункт искусства кино - выделенность вида, ограниченное пространство, рамка, внутри которой определенная композиция, панорама, игра с чисто зрительными эффектами, с пространством и временем. Все это характерно для прозы Набокова. Являясь неклассическим автором, он и в способе изображения был отличен от последовательной повествовательности классиков. Не только язык жестов и чувственных образов на это указывает, но и то, что можно было бы назвать в способе изображения киноприемами -наклон камеры, специфический ракурс видения («киноглаз»), быстрая смена кадров, двойной экспозицией.
Культура XX века визуальна в своей основе, построена на зрительных эффектах и ощущениях, это можно назвать общей тенденцией. И искусство Набокова здесь не только не исключение, но один из самых ярких примеров.
Видимо, немаловажным фактором является то, что Набоков как писатель развивался в то время, когда кинематограф переживал бурный рост и развитие.
Известно, что в отношении к киноискусству параллель с языком, литературой проводилась сразу, с первых дней возникновения кино. Это касается, прежде всего, нарративности кинематографа, его литературности. Неслучайно, большинство фильмов снято по литературным произведениям, где в основе лежит некая история, рассказ. Неслучайно и то, что уже в первых десятилетиях XX века кинематографисты авангарда пытались преодолеть «литературность» кино, создать фильм лишь средствами нового искусства, выработать специфический язык кино, не сводимый ни к театру, ни к литературе. Именно они заложили основы эстетики кино. Таковыми были опыты Ж.Кокто, раннего Л.Бунюэля, П.Леже - фильмы «Механический балет», «Кровь поэта», «Золотой век» и другие. Вопрос о том, насколько режиссерам удалось в своей кинопрактике отойти от литературы и отсылок к ней - отдельный. Например, М.Ямпольский в своем анализе кинематографа в работе «Память Тиресия» настаивает на том, что данные фильмы в любом случае отсылают к литературной основе, более того, без дискурсивной основы их бы попросту невозможно было создать. Тем не менее, есть два немаловажных момента: во-первых, эти опыты авангардистов послужили хорошей и важной основой для дальнейшего развития киноязыка и киноприемов как специфических черт именно кинематографа, а во-вторых, в данных фильмах в первую очередь мы сталкиваемся именно с кинематографической спецификой и видением. Иначе, так сказать «литературно», зритель не сможет воспринимать происходящее на экране.
В чем-то похожие процессы мы наблюдаем в произведениях Набокова, обусловленные важной чертой сходства в подаче образа в кино и литературе. Очень точно охарактеризовал эту черту Ю.Лотман: «В киномире, разбитом на кадры, появляется возможность вычленения любой детали. Кадр получает свободу, присущую слову: его можно выделить, сочетать с другими кадрами по законам смысловой, а не естественной смежности и сочетаемости, употреблять в переносном - метафорическом и метонимическом - смысле» . Нарочитая деформированность и кажущаяся фрагментарность изображения, «затемнение» или «увеличение» некоторых предметов, сторон происходящего, крупный план, акцент на способе видения, на манере организации пространства, декоративность - все это может сбить с толку читателя, привыкшего к размеренной «литературности». Кино превращает свои «документальные» недостатки в художественные достоинства -плоскостность, искривленность, деформацию. Многие режиссеры добиваются преувеличения этих черт как намеренно искусственных, а потому художественных. Например, Ф.Феллини добивался нарочитой искусственности в своих фильмах, тем самым, подчеркивая их художественность. То же можно сказать и о кино-проектах П.Гринуэя. Вообще говоря, такие понятия как «искусственность», «похожесть», «реальность» в искусстве относительны и условны. Как заметил Ю.Лотман, «само понятие «похожести», которое кажется столь непосредственным и исходно данным зрителю, на самом деле оказывается фактом культуры, производным от предшествующего художественного опыта и принятых в данных исторических условиях типов художественных кодов» . Поэтому раннее кино, старые фотографии, литература прошлых веков кажутся нам подчеркнуто высокохудожественными - в смысле их кажущейся для нас искусственности, тогда как для современников они были вполне «жизнеподобны».